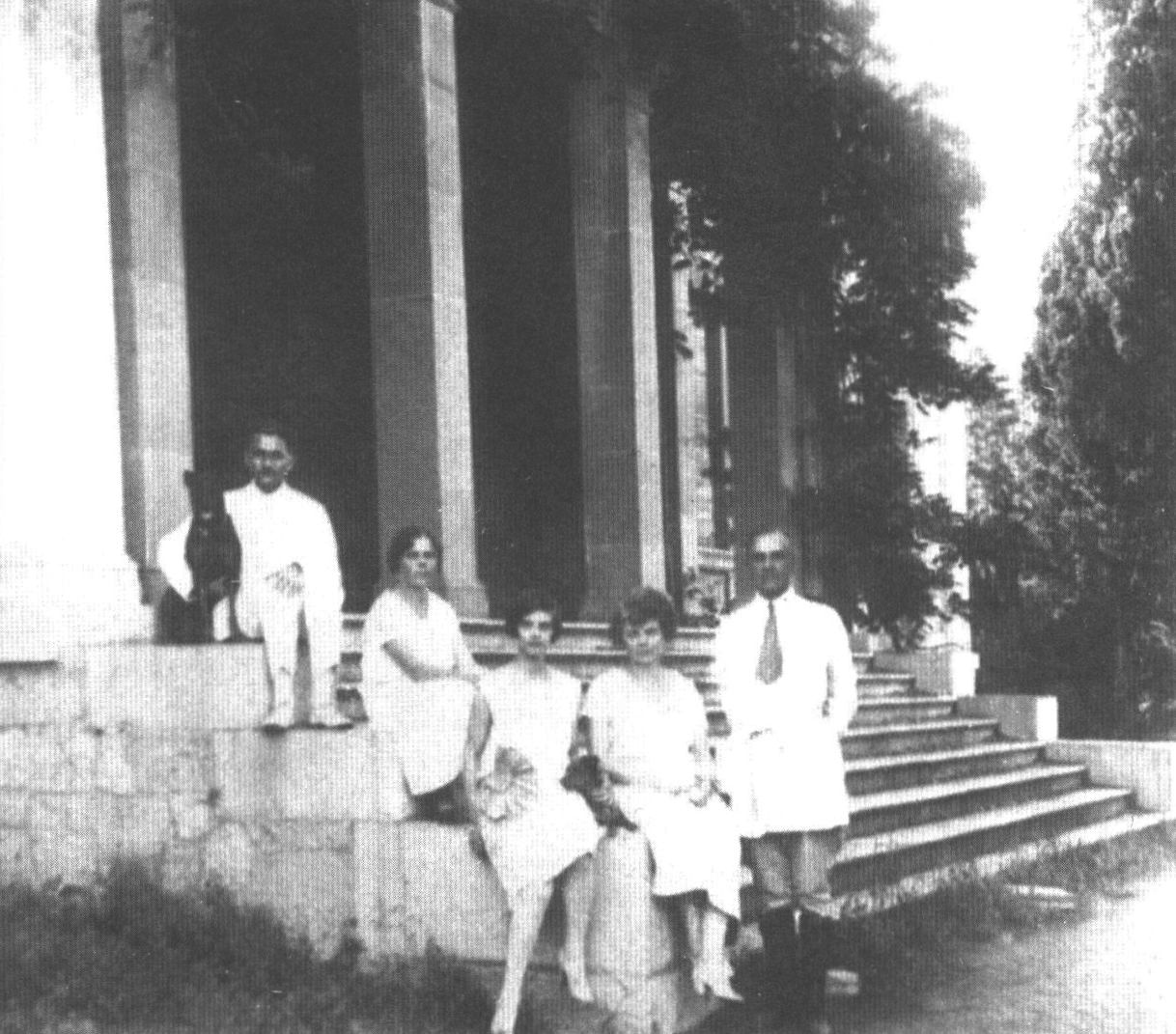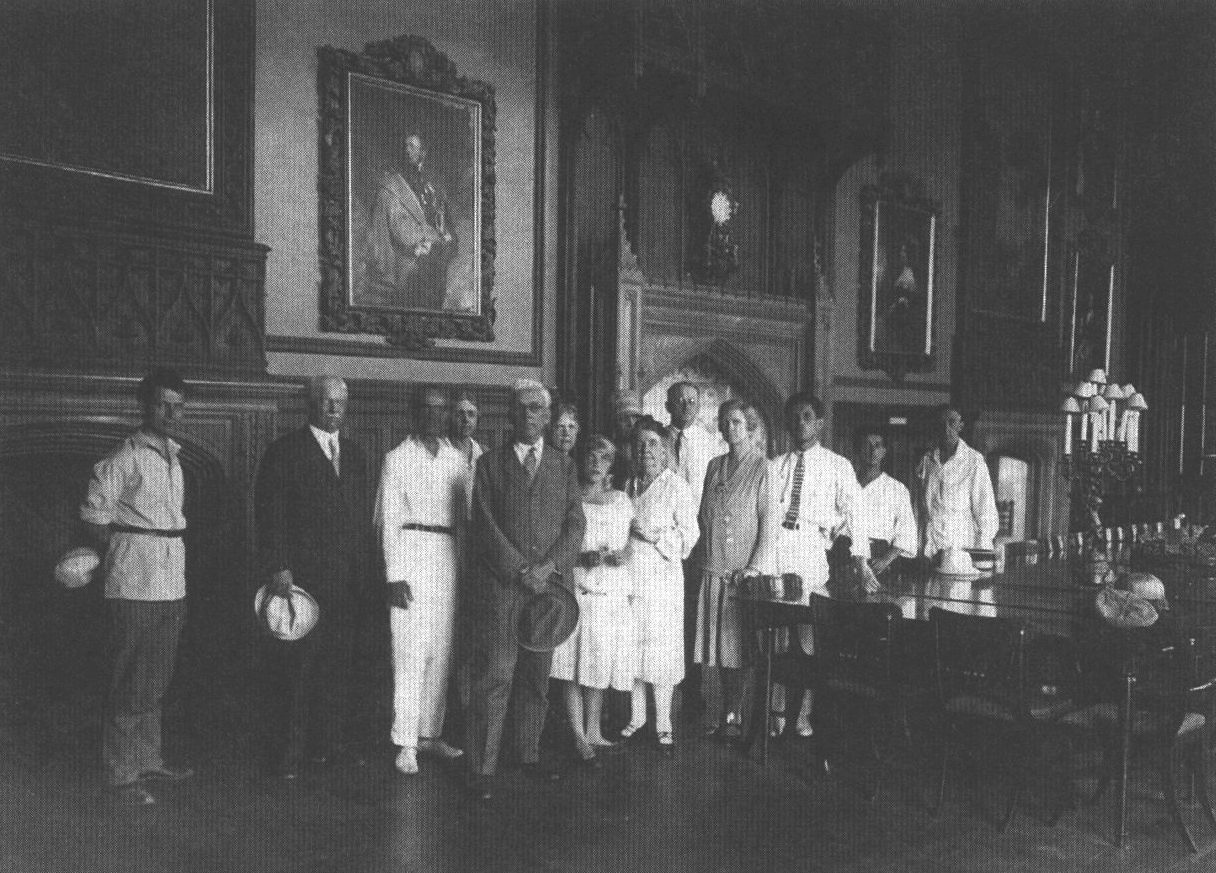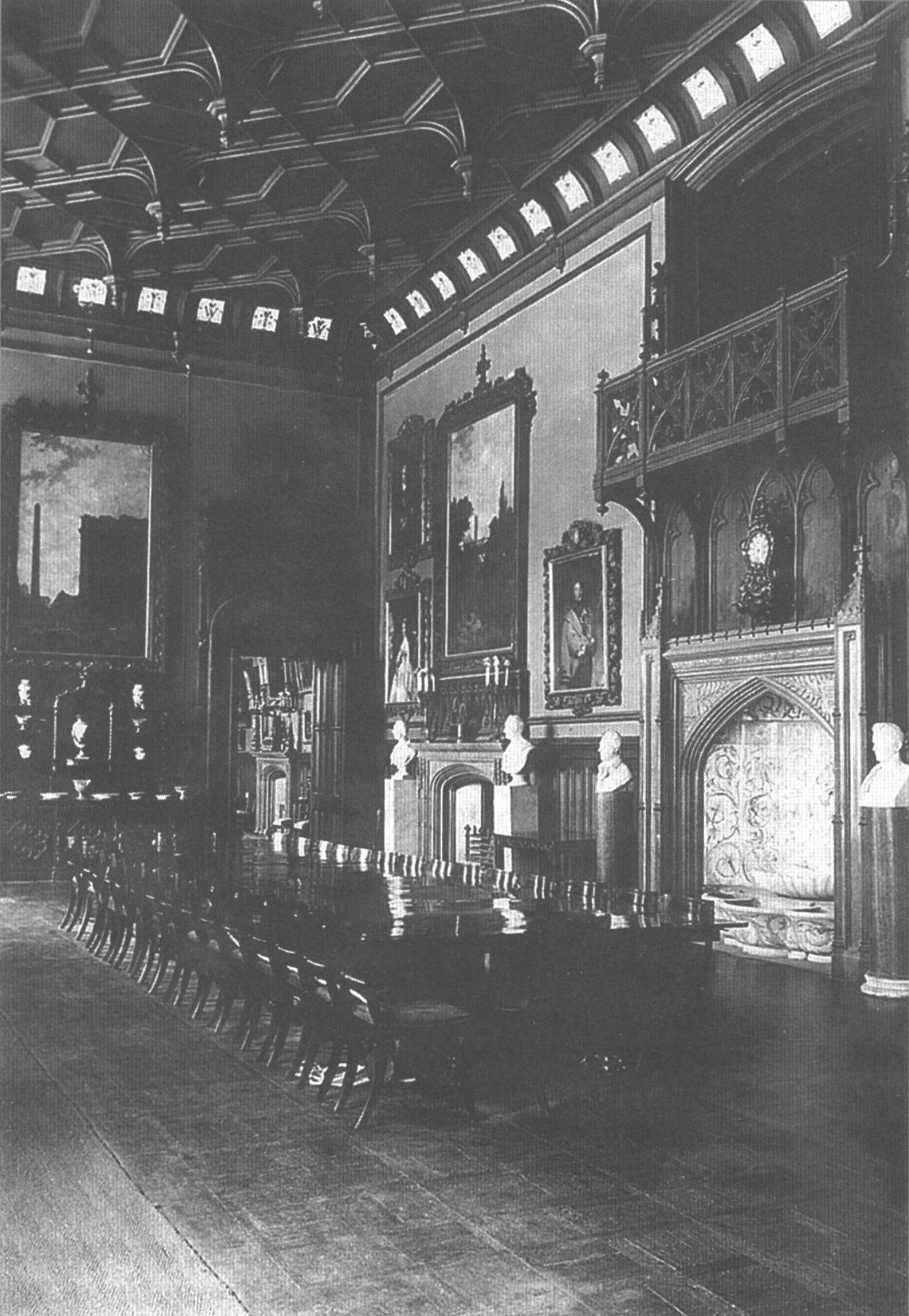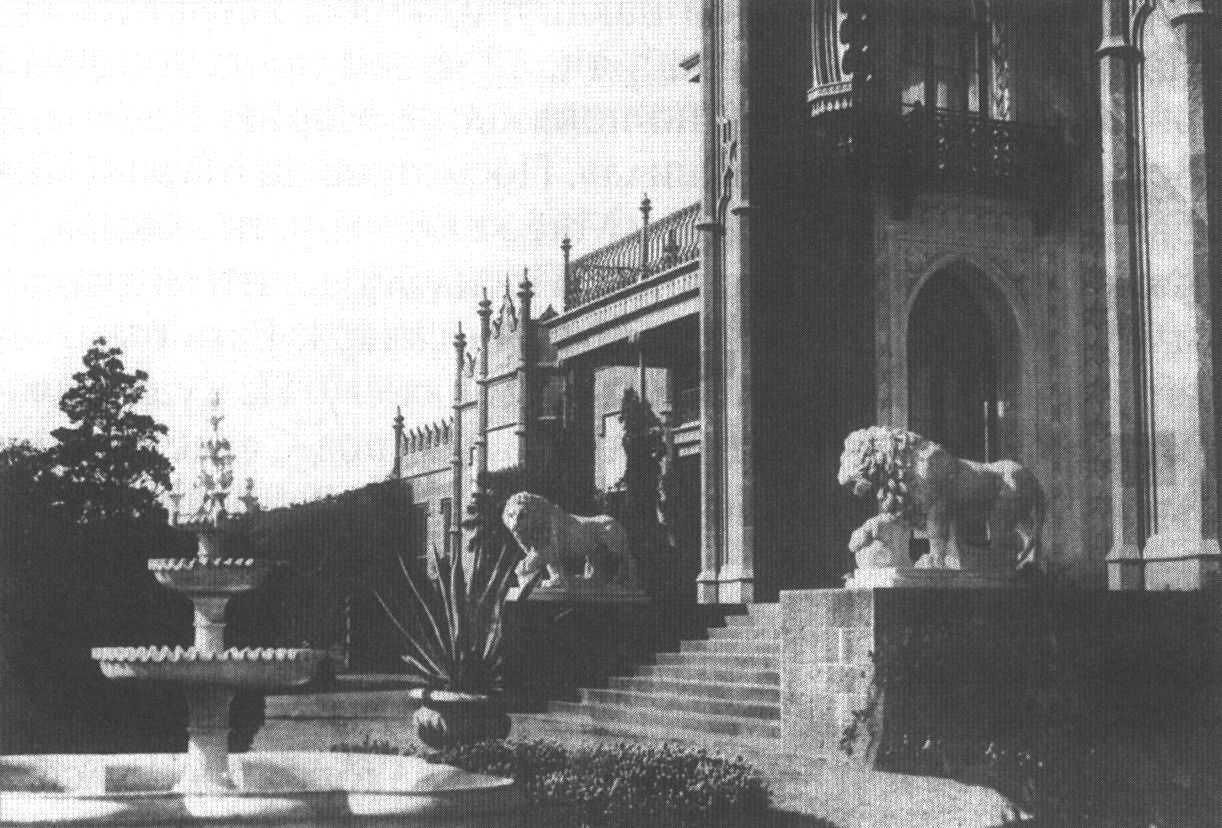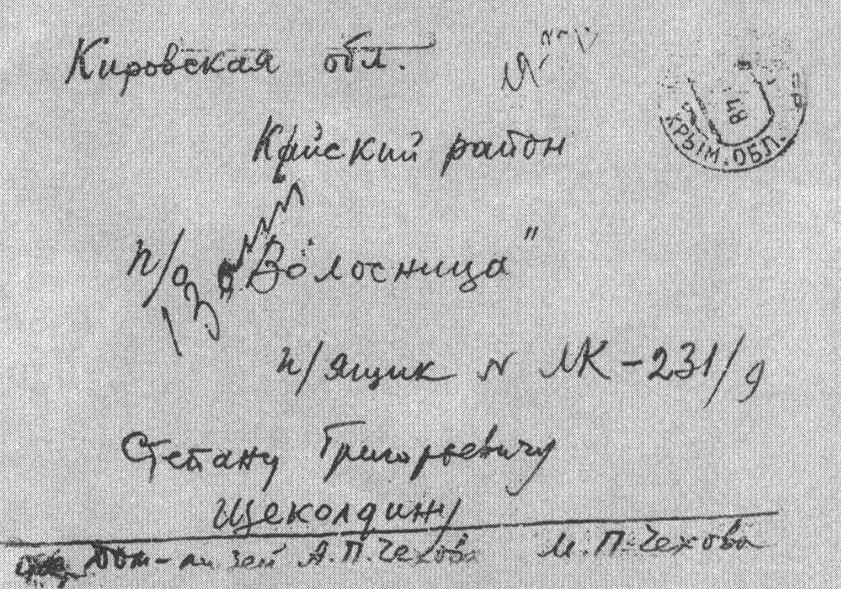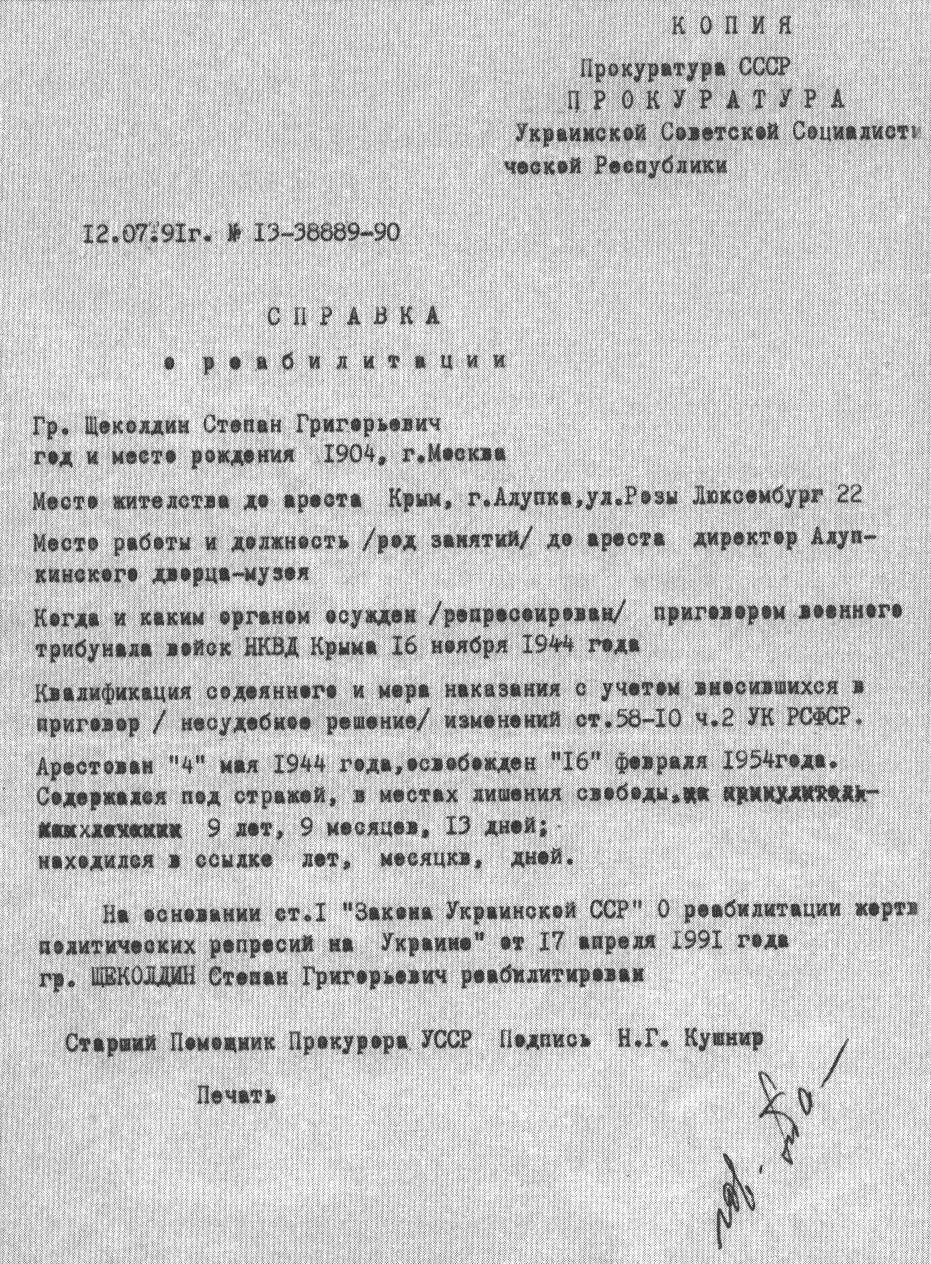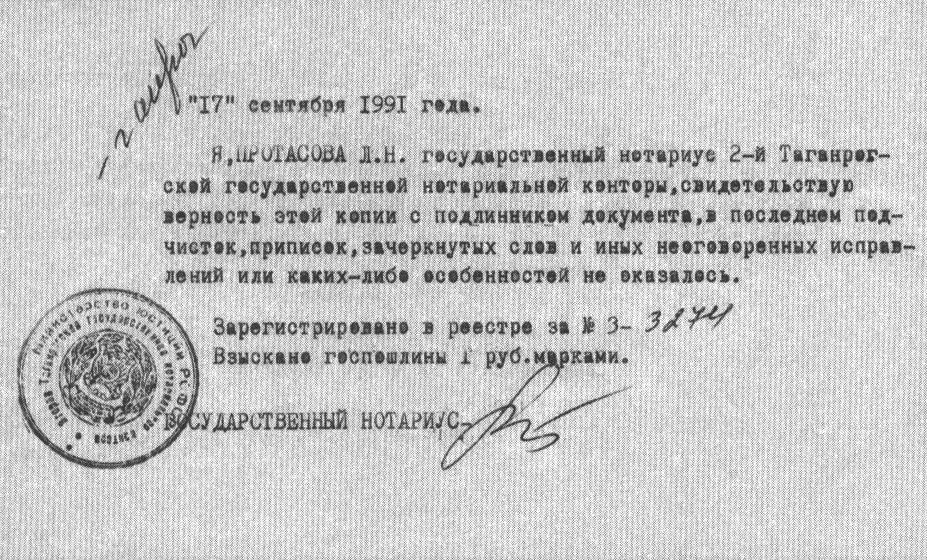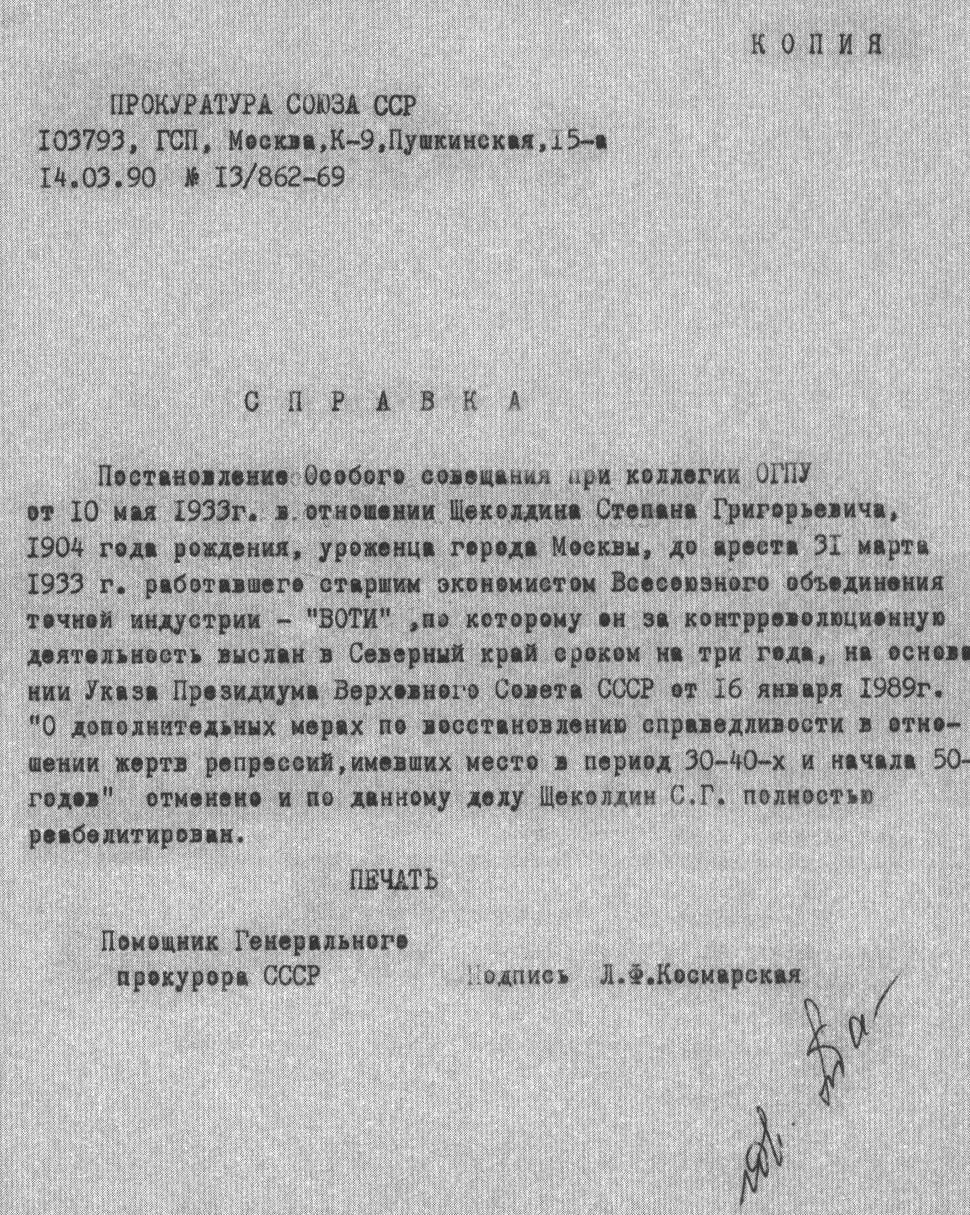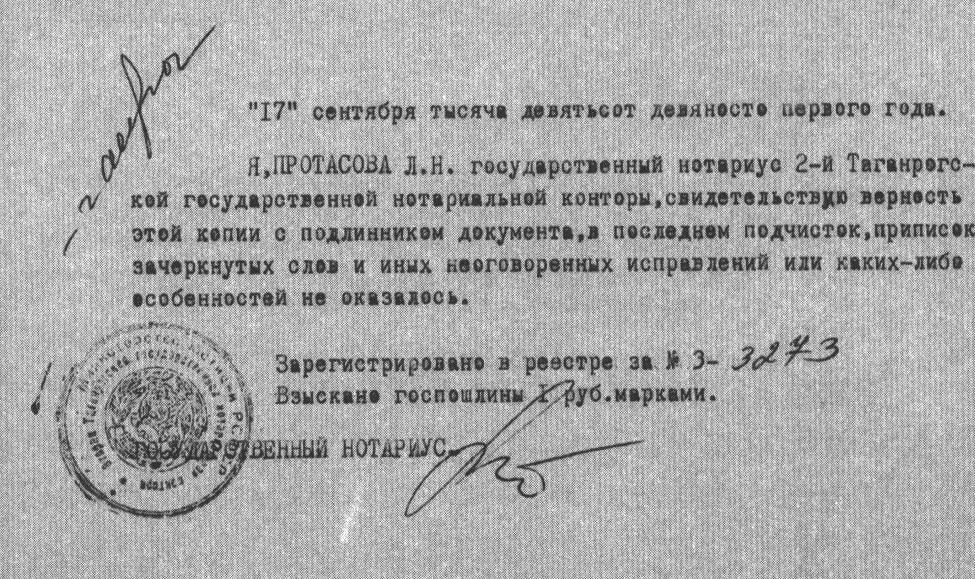|
Путеводитель по Крыму
Группа ВКонтакте:
Интересные факты о Крыме:
В Балаклаве проводят экскурсии по убежищу подводных лодок. Секретный подземный комплекс мог вместить до девяти подводных лодок и трех тысяч человек, обеспечить условия для автономной работы в течение 30 дней и выдержать прямое попадание заряда в 5-7 раз мощнее атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму. На правах рекламы: • Все подробности изготовление алюминиевых дверей в спб тут. |
Главная страница » Библиотека » С.Г. Щеколдин. «О чем молчат львы: Крым. Алупка. 1941—1944»
Краткая история Алупкинского дворца-музея в военные годы (1941—1944 гг.)С самого начала войны ценности музея готовились к эвакуации. Руководил и фактически осуществлял эту сложную операцию присланный из Симферополя опытный научный работник, а затем и директор Симферопольского краеведческого музея Александр Иванович Полканов. Сотрудников музея постепенно, за ненадобностью, увольняли, уволен был и я. Единственный член ВКП (б), исполняющий обязанности директора, Андрей Ефимович Щербатюк, должен был сопровождать ценности музея до места назначения. Анатолий Григорьевич Коренев оставался в стенах музея с женой Марией Ивановной и тогда, когда музей покинули все. Впервые я увидел Анатолия Григорьевича в 1937 году в Севастопольской картинной галерее, где он был бессменным директором. Он показывал галерею группе экскурсоводов крымских экскурсионных бюро, путешествовавших по достопримечательным местам Крыма и Кавказа. Путешествие организовало Туристическое экскурсионное управление ВЦСПС. В этой группе я был в качестве экскурсовода Алупкинского экскурсбюро. А.Г. Коренев был переведен из Севастополя в Алупкинский дворец-музей на должность заместителя директора по научной части в 1939 году. Жил он с женой в музее, занимая небольшую комнату. Я был рад близкому знакомству с Анатолием Григорьевичем, знатоком и ценителем искусств, художником, культурным человеком. И Кореневы очень хорошо относились ко мне. Другие же экскурсоводы по непонятной для меня причине не сближались с Анатолием Григорьевичем, держались в стороне. Странным и диким был вопрос, заданный мне директором Дворца-музея Портным (имени и отчества его не помню), бывшим ранее инструктором или инспектором Крымского обкома ВКП (б): «Зачем вы сближаетесь с Кореневыми?». Позже, когда Кореневы стали со мной откровенны, я узнал, что они были родителями репрессированных детей: дочь их, артистка, и ее муж были где-то в заключении. Значит, Алупка, музей были для Кореневых своеобразной ссылкой из Севастополя. Это обстоятельство еще более сблизило меня с Кореневыми. Понятным стало подавленное душевное состояние Анатолия Григорьевича. Экспозиция музея годами не менялась. Тема экскурсий была «художественно-историко-бытовая». Анатолий Григорьевич никаких изменений не вносил. Он писал книгу о дворце и парках Алупки, иллюстрировал ее фотоснимками, предполагая, что музей издаст ее. Не знаю, кто платил фотографу, — музей или он сам. Но было известно, что руководство музея никакого внимания к его работе, безусловно нужной, по всей видимости, не проявляло. Анатолий Григорьевич собрал экскурсоводов и прочитал свою рукопись. Написанная человеком широко эрудированным в области искусств, увлеченно прочитанная, она произвела на нас хорошее впечатление. Судьба рукописи неизвестна. В музее она не осталась. Мария Ивановна после смерти Анатолия Григорьевича в 1942 году уехала в Симферополь и, значит, увезла и рукопись1. Семья А.Г. Коренева у музея. 1927 г. После Портного (отличившегося как руководитель приказом № 1 — «Создать в музее отдел флоры и фауны», так и не исполненным) до войны несколько месяцев директором был Сайкин (имени и отчества не помню). Мария Ивановна, ухаживая за Анатолием Григорьевичем, настойчиво следила за его диетой, что постоянно раздражало его... И оживлялся он, взбадривался, молодцевато гулял с палкой, когда жена уезжала на несколько дней к своей знакомой в Симферополь. Ходил со мною и моей женой Галиной Александровной на концерты. И вновь хирел, слабел, засыпая на работе, когда возвращалась Мария Ивановна. На втором этаже музея устраивалась выставка картин крымских художников. Анатолий Григорьевич пригласил меня для создания экспозиции. Я делал все, что для этого было нужно. Анатолий Григорьевич был явно физически слаб и удручен. Видя, что он сидя спит, я старался не шуметь и продолжал работать, иногда по своему усмотрению. Анатолий Григорьевич корректировал или оставлял так, как я сделал. Иногда он вспоминал свое прошлое. Они с Марией Ивановной часто выезжали за границу, жили в Давосе в Швейцарии. Анатолий Григорьевич был в дружеских отношениях с художником Коровиным. По поручению московского коллекционера Морозова покупал картины известных художников. Из этой коллекции создан общеизвестный Музей новой западной живописи в Москве. Уволенный из музея, я устроился работать бухгалтером в пекарню, но часто заходил в музей с тревожной мыслью: не успеют эвакуировать. Все ценности, кроме мебели, каминных часов, скульптуры, упаковывались в солидные деревянные ящики с ручками по бокам. Упакована была и библиотека Михаила Семеновича Воронцова из библиотечного зала. Книги из библиотеки Мальцева, из его имения в Симеизе, со времени создания музея хранившиеся во всех шкафах бывшей гардеробной графини, а также книги, находившиеся в библиотечной башне до самого верхнего ее этажа, были оставлены. Брошены и все книги «рабочей библиотеки» для сотрудников музея. Она находилась на первом этаже библиотечного корпуса. Оставлен был и весь столовый и хозяйственный фонд Воронцовых: фарфоровые фамильные сервизы, бокалы различных размеров, предметы хозяйственного обихода. Этот фонд находился в комнате между гардеробной и кабинетом. Оставался и многотомный архив Воронцовых, экономический и эпистолярный архивы. А.И. Полканов хотел снять со стен Парадной столовой панно Гюбера Робера. Я просил его не делать этого: вмонтированные в рамы более ста лет назад при свертывании в рулоны картины погибнут, осыпется краска: «Ведь мы же вернемся после войны, вернутся и экспонаты музея», — говорил я. Полканов согласился. Панно остались. А.Г. Коренев в художественно-промышленном музее Ялты (бывший особняк Барятинских). Конец 1920-х гг. Все, предназначенное к эвакуации, было упаковано в 144 ящика. Машины для перевозки их в Ялтинский порт горсовет давал с трудом. Вывезено было 43 ящика, 101 ящик остался в Вестибюле, Гардеробной, Ситцевой комнате, в зале библиотеки. Фронт быстро приближался к Крыму. В Алупке, в Ялте паника. Кто мог — уезжал. Алупкинский Дом туриста закрылся. Жена моя, работавшая там диспетчером, была, как и все служившие в нем, уволена. Я был вызван в начале сентября повесткой военкомата в приемную комиссию в бывший санаторий «Сосняк» (в нескольких километрах от Ялты). Жена провожала. Я был признан годным к нестроевой службе (по зрению), но отпущен до особого распоряжения, как и все, призванные со мной. Будучи уверен, что меня возьмут в армию, я, с согласия Ялтинского треста хлебопечения, познакомил жену с работой по учету в пекарне, чтобы она заняла там мое место. В Ялте организовывалась эвакуация семей коммунистов. Мой товарищ, лектор-краевед коммунист Лимов, записал мою жену как сестру его жены (она была с годовалым ребенком), и 8 сентября мы проводили их из Ялты в Симферополь. Туда я позвонил своему другу — художнику В.И. Воронцову, не призванному в армию по болезни, и они с эшелоном эвакуированных женщин с детьми с большими трудностями добрались до Ставрополя, где жили родственники жены. Через несколько дней я вновь был вызван повесткой в «Сосняк» и увидел там толпу всех призванных в армию, возвращавшихся опять домой «до особого распоряжения». Я вернулся на работу в пекарню, которая пока еще работала круглосуточно, и я был там нужен. Хлебом снабжалось не только население города. Через Алупку на Севастополь проходили части Красной армии. И все чаще и чаще в пекарню приходили представители армии с распоряжениями председателя горисполкома об отпуске хлеба. Я вынужден был беспрерывно находиться в пекарне, так как заведующий ее Буланов, который должен был заботиться о поставке муки из Ялты, все чаще и чаще пьянствовал. В этот период я находился на работе круглые сутки, не ходил ни домой, ни в музей. Мне приходилось с помощью красноармейцев принимать мешки с мукой с катера, приходившего из Ялты. Море штормило, катер не мог спокойно приставать к пристани, и мешки перебрасывали. В конце концов город оставался уже без хлеба. Хлеб отпускали только проходившим частям Красной армии. Последние части ее ушли 3 ноября. Поставка муки прекратилась. Последнюю выпечку хлеба люди, осаждавшие пекарню, растащили прямо из печей. Враг приближался к Крыму. Все санатории и дома отдыха опустели. Из Ставрополя от жены я получил письмо: «Если сможешь, приезжай. Жилье есть, работа найдется». Я в панике. Обратился к председателю горисполкома Бекиру Чолаху с просьбой об эвакуации, он в ответ: «Мы сами бежим на Севастополь рыб кормить, ни одного человека взять не можем». Особого распоряжения от военкомата так и не поступило. Я — к дежурному Ялтинского военкомата, просил взять меня добровольцем в армию. «Когда понадобитесь — вызовем». Так и не «понадобился». Выехать из Крыма было невозможно. Билетная железнодорожная касса уже не работала. На почте письмо в Ставрополь у меня не приняли: связь Крыма с Большой землей прекратилась. Г.Д. Костылев, видя, как я мечусь между музеем и пекарней и хочу уехать в Ставрополь к жене, познакомил меня в Ялте с главным врачом госпиталя, где содержались раненые. Я просил его взять меня культработником в госпиталь, с тем, чтобы эвакуироваться вместе с ранеными на теплоходе. Главврач с печалью проговорил: «Боюсь, что мы не сможем взять даже всех раненых на теплоход». Последняя надежда уехать из Крыма исчезла. Вскоре теплоход с ранеными был потоплен фашистами недалеко от Ялты... А что же музей? Оставлен на произвол судьбы? Из музея все уехали. Директор Сайкин отбыл сразу, как только началась работа по эвакуации. В музее остались А.Г. Коренев с женой, сторож Кухарский и я. Как только пекарня прекратила работать, я находился в музее с утра до вечера. Из Ялты позвонил Щербатюк: «Давайте машины, отправляйте ящики в порт». А.Г. Коренев нервничал, растерявшись, передал мне трубку. Я отвечал Щербатюку: «Машин нет, все разбежались, грузить некому и не на что». Больше Щербатюка я не видел никогда. Через два с половиной года он прислал мне из Симферополя письмо: просил сообщить, целы ли его личные вещи, которые, оказывается, он позаботился упаковать в ящики с музейными ценностями и в первую очередь отправить в порт. Ни в одном из вскрытых мной ящиков не было никаких домашних вещей немузейного назначения, о чем я сообщил ему не без удовольствия. Сотрудники и гости музея. Довоенная фотография Кореневы боялись оставаться одни в музее: не случилось бы каких-либо эксцессов, тем более что по городу прошел слух, будто дворец будет взорван. Я не верил таким слухам, но позаботился перевезти Кореневых в один из опустевших санаториев ниже дворцового шоссе. По их просьбе я поселился там же, в комнате рядом, когда в Алупке уже были немцы. Красная армия отступала к Севастополю, по всем дорогам Южного берега Крыма: по нижнему и верхнему шоссе. Это длилось несколько дней. Ушли. Что же будет с нами? В Шуваловском корпусе дворца, где помещался дом отдыха имени 10-летия Октября, разместился штаб истребительного батальона. Однажды на площадь к дворцу подъехала машина с грузом, из кабины вышел молодой солдат в пилотке. Он обратился ко мне: «В музее кто-нибудь есть?». Меня охватила тревога: «Я сейчас узнаю» — и бегом в штаб истребительного батальона: «На помощь! Взрывать хотят!». Человек пять-шесть побежали вместе со мной к машине. Один из них назвал себя комиссаром батальона Поздняковым, другой — командиром батальона Вергасовым. Солдат в пилотке представился как уполномоченный НКВД. В машине была взрывчатка. Уполномоченный упорно твердил, что он выполняет приказ. Спор был недолгим. Поздняков горячился, меня трясло как в лихорадке. По приказу Позднякова дружинники выдворили машину вон. Этот эпизод приводит в своей книге «Крымские тетради» писатель Илья Вергасов, воевавший в Крыму. Я просил: «Я один в музее, дайте охрану». С этого же момента в вестибюле дворца постоянно днем и ночью находились 5—6 бойцов истребительного батальона. Я разрешил им топить камин, так как было холодно. Все двери, выходящие из вестибюля, я запер, оставался открытым выход на дворцовую площадь. Но пришел день, когда Шуваловский корпус опустел: истребительный батальон исчез, ушел в горы. Я остался один. А.Г. Коренев, к моему удивлению, не принял никакого участия в моих хлопотах, молчал, подавленный моими сообщениями, или восклицал: «Как они смеют!». Парадная столовая с картинами Гюбера Робера. Довоенная фотография В городе упорно шли разговоры о взрыве дворца. Я — в горисполком. Вбежал без разрешения, застав там Чолаха, уговаривавшего человека лет 50-ти уходить в лес, в партизаны (это был бывший председатель горисполкома тов. Мацак). «Продовольствие, все, что нужно, завезено в лес, на базы». — «Бекир, я не могу: у меня ноги болят!» — «Я не могу отменить приказ обкома». (В декабре 1941 года я видел, как его вели под конвоем фашисты по ул. Красных партизан в гестапо.) Я — к нему: «Товарищ Чолах! Меня тревожат слухи о взрыве дворца». — «Дворец взрывать не будем. Ты хорошо знаешь дворец. Жди моего распоряжения по телефону: возьмешь керосин, обольешь все подвалы и подожжешь». — «Вы с ума сошли! Миллионные ценности, памятник культуры, и вы — сжигать! Зачем это! Это фашистов остановит?» — «Ты знаешь приказ товарища Сталина? Врагу нельзя ничего оставлять! Иди, жди и действуй». Ноги мои подкашивались от ужаса. Сразу в музей, к телефону. Там сидел Кухарский. Я перерезал провод телефона, аппарат Кухарский куда-то унес. Я не знал, что делать, но понимал, что из музея не могу уйти теперь никуда. Потрясенный попыткой взорвать дворец, распоряжением Чолаха получить керосин и поджечь его, я ходил по комнатам музея, просил сторожей приходить на работу. Калашникова отказалась, Кухарский приходил. Вечером 3 ноября последние части Красной армии прошли через Алупку. Город словно опустел, притих в ожидании неизвестного. Тишина пугала. Забудет ли Чолах обо мне? Во дворе темно... Я прислушался. Кухарский сидел в Вестибюле. Прошел из Вестибюля в Голубую гостиную. Услышал звон разбитого стекла. Бегом через Зимний сад, Парадную столовую. С криком: «Вон отсюда, сволочь!» — я вбежал в Бильярдную. Парень лет 15-ти уже вылез назад во двор, пока я лез за ним, он помчался вдоль дворца направо, второй парень убегал к Львиной лестнице; тяжело бежал от Альгамбры Кухарский по двору ко мне, а я, не помня себя, выливал керосин из бидона, стоявшего у стены. Молча, в ужасе от случившегося, я выслушал резонное замечание Кухарского: «Зачем выливать керосин? Светить нечем!» (Уже давно не освещались дома). Закрыв все ставни (внизу были закрыты раньше, наверху не хотелось закрывать их: жутко было находиться в темноте), я попросил Кухарского подежурить и побежал домой к Ивану Семеновичу Минакову, столяру, работавшему в музее. Упросил его, чтобы он временно забил доской разбитое стекло. Утром остеклил. Просил Кухарского остаться со мной на ночь. Он побыл часа два, потом ушел домой, а я пробродил по музею до утра. Он сменил меня утром. Сразу я пошел в горисполком: в Алупке не было никакой власти. Все: горисполком, НКВД, милиция, пожарная команда уехали в Севастополь. Двое суток — 4-го и 5-го ноября — безвластие. Граждане громили магазины, базы, аптеку, дома отдыха и санатории; разносили по домам кровати, матрацы, все, что попадало под руку. Вечером горели: ресторан, гостиница «Дюльбер», по фасаду которой вилась китайская глициния, клуб, находившийся на месте теперешнего сквера с памятником В.И. Ленину. Значит, распоряжение Чолаха «по приказу Сталина» выполнялось вот этими подростками, пытавшимися совершить такое же варварство и с музеем. В Мисхоре горел санаторий «Дюльбер» (бывший дворец великого князя П.Н. Романова, построенный по проекту архитектора Краснова, копия его сохранилась), в Ялте — дворец Эмира Бухарского, в Ливадии — Малый дворец Романовых. Эти двое суток я был в состоянии тревожного ожидания новой беды. Я жил на улице Севастопольской (ныне улица Говыриных), в доме № 12. Сообщение о неудавшемся поджоге Анатолий Григорьевич воспринял с ужасом и горько заплакал. И в этот раз Мария Ивановна настояла на том, чтобы он не ходил в музей, вообще не ходил по городу, он был очень слаб. 6-го ноября по обеим дорогам шла немецкая армия. Огромные бельгийские быки везли орудия, шли обозы, моторизованные части. В небе рычали Мессершмитты. На улицах — громкая повелительная немецкая речь. Не помню, откуда я услышал, что первые три дня оккупации Гитлер разрешил «победителям» грабить. И это меня страшило. Со своими я «управился», а с фашистами? Все дни я находился в музее. Первое время я не мог говорить по-немецки. Немецкий я учил, как все, в средней школе и в вузе, в 1916—1923 годах, и в 1923—1927 годах, и в 1927 году — на курсах Берлиц в Москве, где был разговорный метод обучения. Но до 1941 года я не имел надобности пользоваться немецким языком. И вот теперь непосредственное неизбежное соприкосновение с немецкой речью. Мария Ивановна, оказывается, могла немножко связать отдельные немецкие слова в фразы. Она с Анатолием Григорьевичем приходила во дворец несколько раз. Парадный кабинет. Довоенная экспозиция Дверь во дворец с площади закрытой держать было невозможно: стук оружием, ногами, крики в приказном тоне, поэтому она была открыта с утра до вечера. Уходя на несколько минут, я закрывал ее, выходил на дорогу из нижнего этажа. В залах музея был хаос. Картин на стенах не было никаких, только панно Г. Робера красовались в Парадной столовой. Вся мебель ее была сдвинута в одну сторону. В Бильярдной свернут в рулон ковер, всегда лежавший в этой комнате (размером в ее площадь), — подарок М.С. Воронцову от персидского шаха Фетх-Али (увезенный «дачниками», когда из музея сделали дачу). Во всю длину коридора возле гардеробной стояли ящики с книгами. Ящики были и в зале Библиотеки. В Зимнем саду стояла на своих местах вся античная скульптура: саркофаг, голова Медузы Горгоны (барельеф), статуя поэта, торс Венеры. В марте 1954 года, возвращаясь из лагеря проездом через Москву, я увидел с радостью и болью всю эту античную скульптуру — экспонаты нашего музея — в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. В один из первых дней оккупации трое высокого роста пожилых офицеров, пройдя по залам, направились в Библиотеку. Мы с Анатолием Григорьевичем и Марией Ивановной Кореневыми пошли за ними. Офицеры вскрывали ящик. В нем были гравюры. Мария Ивановна взволнованно говорила: «Нельзя, нельзя! Вы заняли Париж, разве вы и в Версале все забирали?». Фашисты не слушали, взламывали ящик. Кореневы ушли, мне приказали выйти вон. Издали я видел: в руках грабителя был рулон свернутых гравюр. По залам музея шел пожилой офицер. Он немного говорил по-русски, назвавшись капитаном Дитманом, хвастал, что был командиром охраны поезда, в котором В. Ленин проезжал в 1917 году через Германию в Россию: «Если бы я знал, кто ехал в поезде...». Он «возымел желание» срезать один из ковров-портретов Фетх-Али-шаха (работы Ага Бузурука). Мы возмущенно говорили о варварстве, о грабеже, недостойном офицера, и пр. Он «уступил», срезал только часть ковра под ногами портрета (левого, при выходе из вестибюля), свернул в рулон и увез на машине. В городе был объявлен комендантский час: с наступлением темноты выход из дома запрещался. Так было все время оккупации. Комендант, осуществлявший власть, был командиром воинского подразделения, стоявшего в городе гарнизона. Через каждые три месяца гарнизоны с комендантом менялись, уходили на фронт. Первым комендантом был капитан Гаук. Я запомнил его: с ним у меня было острое столкновение. Алупка. Башня замка Воронцова Комендантом было объявлено собрание населения города на площади для «избрания» городского головы — бургомистра. Комендант объявил кандидатуру на этот пост: Бориса Александровича Ступина, владеющего немецким и французским языками. Он был до оккупации директором «Электроводоканала», беспартийным. Был создан штаб городского управления. Приказом № 1 штаба я был назначен «хранителем» дворца-музея. Ступин защищал интересы населения, был интеллигентным человеком и скоро не понравился коменданту. Он снял его с этого поста и назначил Михаила Андреевича Ловчикова, служившего до оккупации директором продовольственной базы, коммуниста. Я обращался к нему с просьбой от музея о помощи А.Г. Кореневу, когда во время войны было очень голодно. Он отказал. К нему, уже как к городскому голове, я обратился с той же просьбой (для Кореневых). И снова получил отказ. Вскоре появился приказ верховного командования: «все работавшие обязаны вернуться к своим обязанностям. Неподчинившиеся будут объявлены саботажниками, и к ним будут применены строгие меры, вплоть до расстрела». Я попросил смотрительниц по залам музея вернуться на работу, но добровольно. Пришли и работали со мной все время оккупации: Агриппина Герасимовна Минакова, Ольга Антоновна Голиш (ныне Петрушева), Дарья Георгиевна Потапова. Не захотела работать при немцах Софья Сергеевна Шевченко (особенно уважаемая мною старушка). Однажды я увидел в парке возле дворца женщину, собиравшую улиток для еды. Она попросилась на работу, и я принял ее смотрительницей. В городском управлении мне сказали, что она коммунистка и что я должен ее уволить. Я не уволил: «Меня не интересует ее мировоззрение, она хорошо работает». Работала она недолго. Однажды не вышла на работу. Уехала или арестовали — неизвестно. Пригласил я на работу двух юношей по 16 лет: Минакова Николая — сына столяра и Агриппины Герасимовны и Амди Усеинова. Он был сыном Кязима Усеинова — учителя и директора татарской школы. Это был интеллигентный человек, собирал фольклор крымских татар. Его сборник «Сказки и легенды крымских татар и анекдоты о Насреддине и Ахмет Ахае» был изданы в 1936 году Алупкинским дворцом-музеем. Семью Усеиновых я хорошо знал. После ареста Кязима Усеинова в 1937 году я снимал у них комнату. Амди был воспитанным, умным, энергичным, красивым мальчиком — был самым хорошим, самым дисциплинированным и главным помощником в работе музея в тяжкие годы оккупации. Сейчас (в 1997 году) Амди Кязимович Усеинов, перенесший все испытания, выпавшие на долю репрессированного татарского народа, живет в Симферополе, ему 72 года2. Солдаты, офицеры всех рангов, проезжавшие мимо дворца в Севастополь, шли в музей, проходили по всем залам. Кореневы перестали приходить в музей. Обо всем, что мы делаем и что происходит в музее, я рассказывал им дома. Как только начала работать комендатура и организовалось городское управление, я обратился туда с просьбой разрешить мне поездку в Ялту, чтобы узнать о судьбе вывезенных музейных ценностей и выдать для этого документ. Получил и то и другое. На попутном грузовике приехал в Ялту. В порту я увидел двух русских матросов, что-то делавших неподалеку от склада. Спросил их. «Вон ваши ящики, забирайте, пока не растащили!». Пароход «Армения», который должен был увезти ценности музея, погиб под бомбами фашистов. Склад был раскрыт настежь. Страшно и больно было видеть: на полу валялось несколько листов гравюр, затоптанных грязными сапогами; на одном из раскрытых ящиков стояла ваза... фарфора Веджвуд (из Голубой гостиной)! Из 43-х ящиков, вывезенных из музея, семь были разграблены полностью. В каком-то из них, значит, были вещи Щербатюка. Что ж? Как я был прав, говоря Полканову, что не успеют эвакуировать. Что Полканов мог сделать? Он сделал, что мог. Иранские ковры уникальной работы В Ялте ведь были те же два дня погромов, что и в Алупке, значит, ценности музейные грабили и фашисты, и наши граждане? К складу подъехала легковая машина, вышедшие из нее два офицера направились к ящикам. Показав им документ, я попросил их уйти. С ругательствами фашисты уехали. Измученный и голодный, я не шел, а бежал в Ялтинскую комендатуру — просить матросов закрыть двери и прибить к ним доску. Ялтинский комендант дал два грузовика и четырех солдат, но отказал мне в просьбе помочь перевезти все уцелевшие ящики в Алупку. И с разрешения городского головы Мальцева мы перевезли их на склад Ялтинского горуправления. Мальцева я знал. В 1940—1941 годах я работал пять месяцев экскурсоводом-искусствоведом на постоянной выставке живописи московских художников, помещавшейся в армянской церкви в Ялте. Картины продавались с выставки организациям и частным лицам. За развитием советской живописи я следил с первых лет после Великой Октябрьской революции, был знаком с ней, бывая на всех выставках картин в Москве, знал многих художников. Директор санатория полковник Мальцев приходил на выставку и покупал картины для санатория военно-морского флота. Меня удивляло его поведение, его высказывания: это был барин. Коммунист — и словно барского поведения! Он остался в оккупации, заявив, что сознательно принял «немецкую акцию», о чем было опубликовано в газете «Голос Крыма». Он узнал меня с трудом; после отъезда жены я перестал бриться, носил усы и бороду «а ля Чехов». А он — словно почернел, похудел, от барского вида ничего не осталось! Я сказал ему об этом. Он ответил: «Тяжело менять всю жизненную позицию». Потом я видел его в Алупке: он приезжал туда уже в роли «мирового судьи». А когда генерал Власов собирал свою армию из изменников Родины (об этом сообщалось в газете «Голос Крыма»), он поехал к нему. Попав в плен в 1945 году вместе с Власовым, был повешен. Но здесь я должен объяснить, почему я, сотрудник музея в 1938—1944 годах, пять месяцев трудился на выставке в армянской церкви. Это была «музыкальная история», в 1940 году стоившая мне большой нервотрепки. Дом Усеиновых в Алупке На одном из концертов симфонического оркестра, приезжавшего из Ялты в Алупку (в Верхнем парке был курзал с эстрадой, где часто устраивались гастрольные концерты), в программе была объявлена шестая симфония П.И. Чайковского — шедевр из шедевров мировой симфонической музыки, самая любимая мной симфония. И, к моему ужасу, она была заменена куплетами Дунаевского из кинофильма (не помню его названия, какие-то «на рыбалке — рыбаки»). Я с негодованием попросил жалобную книгу. Ее услужливо дал заведующий курзалом, он же заведующий клубом, он же культработник дома отдыха им. 10-летия Октября — В.С. Кинеловский. Он иногда проводил экскурсии по музею в дни перегрузок. Жалобу мою он направил не в Ялтинскую филармонию, а передал директору музея Портному. Реакция была поразительная. В стенной газете музея появилась статья Портного. Моя жалоба была объявлена как «вылазка классового врага», он требовал переизбрать меня как председателя месткома профсоюза. Меня отстранили от ведения экскурсий. Я занимался экспозицией выставок на втором этаже, а также инвентаризацией и классификацией гравюр в «железной комнате». И наконец, меня уволили. Но приняли на работу на выставку в армянской церкви. В течение пяти месяцев я хлопотал, обивая пороги Ялтинского горкома партии и Управления культуры в Симферополе. И меня восстановили в штате музея. Что я мог ответить директору Сайкину на вопрос: «Почему вы так хотите работать в музее?». Я впервые в жизни работал по любви и призванию... Алупкинская комендатура отказалась дать мне машины для перевозки ящиков из Ялты. Горуправление не отказало, но машин не дало. Машин не было. Все целые ушли в Севастополь, а поломанные ремонтировались. Просить было бесполезно. Горуправление было озабочено питанием населения. Народ голодал. Из Ялты привозили соль, это было все, что можно было найти в разграбленных горожанами складах. Забивали лошадей, оставленных за непригодностью Красной армией. Кормили бульоном, т. е. подсоленной водой с кусочком конины. Выпив воду, я по нескольку часов жевал этот кусочек, но он так и не разжевывался, и я глотал его размягченным. Недели две мне не давали машины. И наконец, с двумя шоферами мы погрузили ящики на два грузовика — сколько могли вместить машины. Поскольку я возвратил ящики в музей, то решил воссоздать экспозицию. Во-первых, немцам в ящиках легко вывезти в Германию все ценности, значит, ящики нужно уничтожить. Во-вторых, в пустом здании дворца фашисты могут расположить какую-нибудь воинскую часть. Здание дома отдыха Наркомместпрома на улице Кирова они превратили в конюшню на обоих этажах. Мои опасения оправдались. Однажды ночью меня разбудил мотоциклист и повез во дворец. На площади стояли грузовые машины, чем-то загруженные. Офицер потребовал открыть дворец. (В первое время оккупации я установил ночное дежурство сторожей, посменно внутри дворца.) На стук в дверь Калашникова не отзывалась, офицер нервничал, вынул пистолет, угрожал. Я, как мог, попросил офицера подождать и побежал через парк домой к Кухарскому. Калашникова сидела у него. Открыл дверь дворца, и солдаты выгрузили из машин одежду и ящики с продовольствием. Под склад заняли Голубую гостиную и Зимний сад. Двери в Парадную столовую и Ситцевую комнату я запер. Выдавали все это «довольствие» в Вестибюле. Я протестовал, говоря, что есть пустующие здания домов отдыха. Комендант пообещал освободить дворец через две недели. Обещание сдержал. Склад был во дворце в течение двух недель. Учителя татарской школы в Алупке. В центре с ребенком на руках Кязим Усеинов Работать было тяжело. Голод. Холод. В декабре −15°, а зима 1941—1942 года была необычайно суровой. В Зимнем саду мраморные бюсты Екатерины II, Воронцовых, прочие стояли на полу (по-видимому, думали эвакуировать). Мы поднять их на тумбы не могли. Я попросил проходивших немцев помочь. Они поставили их по местам. Я вскрывал ящики пожарным топором, женщины и мальчики уносили картины в библиотечный зал. Там была груда рам из-под картин. Однажды я пришел в музей (куда-то уходил на короткое время), и женщины мне сказали, что комендант приказал приготовить облюбованную им картину (портрет женщины в пояс с обнаженной грудью — неизвестного художника XVIII века; масло, холст, в экспозиции она не была), подобрать раму. Он пришлет за ней денщика. Я сказал им, чтобы они оставили картину на месте. На следующий день повторилось то же: комендант приходил в мое отсутствие, кричал, почему не приготовили картину. Я опять сказал женщинам то же и добавил, что пусть он со мной разговаривает. Женщины были в ужасе: «Он злой, он нас расстреляет». Об этом первом в Алупке коменданте были разноречивые слухи: одни говорили, что он интеллигентный человек, другие — что свирепый и безжалостный. На следующий день утром я встретил Б.А. Ступина: «Степан Григорьевич! Что это вы перечите коменданту? Картину какую-то не даете? Да он все заберет и всех нас расстреляет!» — «Не беспокойтесь, Борис Александрович! Я найду с ним общий язык». В тот же день я шел в комендатуру с просьбой о выделении для музея дров. Поднимался по лестнице на второй этаж. Мимо меня спускался вниз Гаук. Узнав меня, остановился внизу, сразу закричал: «Как ты смеешь не выполнять мой приказ?!» — «Я не понимаю ваш приказ, господин комендант. Картина — музейный экспонат, почему она может быть в квартире?» — «Кто здесь хозяин? Я или ты?» — «Если вы хозяин в городе, то в музее — я». — «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» — «Господин комендант, почему вы разговариваете со мной на "ты"? Мы не пили с вами на брудершафт». Его крик, его наглость меня возмущали, со мной никогда так не обращались, во мне все вскипело. Фашист заорал еще громче, говорил очень быстро, и я уже не понимал ничего. «Господин комендант. Вы говорите очень громко (а у меня хороший слух) и очень быстро, и я ничего не понимаю». Совсем рассвирепев, фашист выхватил из кобуры пистолет. «Я тебя застрелю, тогда ты все поймешь!». После этих слов я как-то успокоился: я не погибну, я буду жить! И я спокойно ответил: «Тогда я совсем ничего не пойму». Фашист, постучав рукояткой пистолета о перила, сунул его в кобуру и выкрикнул: «Завтра в 12.00 буду во дворце!» — «Я буду в музее в 12.00, господин комендант», — и мы разошлись. На следующий день в 12 часов издали послышались тяжелые шаги. Меня предупредили: «Комендант идет!». Я стоял в гардеробной у ящика с книгами, вскрывая его. Комендант подошел ко мне: «Покажите музей!». Ага! Уже на «вы»... В библиотечном зале, показывая на картину: «Вы понимаете? Я солдат. На отдыхе. Я хочу отдыхать с комфортом. Может быть, очень трудно найти раму для этой картины?» — «Я думаю, что нетрудно». — «Я пришлю завтра денщика с распиской. Я ведь на время беру для себя. Я возвращу по истечении срока моего отдыха». — «Я тоже так думаю, господин комендант». На следующий день солдат принес расписку, получил картину в раме. А через два месяца солдат принес картину, потребовав расписку... Этот эпизод и позже другие случаи убедили меня в том, что немцы с уважением относились к тем, кто держался с достоинством, и презирали тех, кто перед ними пресмыкался. В Алупке был вывешен приказ верховного германского командования: «При встрече с господами офицерами все обязаны приветствовать их снятием головного убора». Чтобы не унижаться, сначала я носил шляпу вместе с портфелем в руке, а затем и вовсе не брал ее с собой. Кязим Усеинов и сказительница Хатиджи Айвазова. Алупка. 1936 г. Ловчиков, бывший в ту пору в горуправлении зав. продотделом, смеясь, сказал мне: «Степан Григорьевич, комендант называет вас Иисусом Христом». — «В этом нет ничего смешного: значит, комендант слишком высокого мнения обо мне». — «Не сносить головы вам, Степан Григорьевич!» — «Позаботьтесь о своей голове, Михаил Андреевич!». И не сносил: впоследствии его, уже бургомистра, за разврат, за пирушки с самогоном, за женитьбу на татарке при живой жене (она неожиданно приехала с Украины) немцы увезли куда-то из Алупки. В первые же дни оккупации ко мне домой пришел С.С. Радченко, экскурсовод музея, скромный человек, хромой, с палочкой (поэтому он не был мобилизован в армию и не смог, как и я, эвакуироваться), и сказал мне: «Кинеловский вас боится». После «музыкальной истории» я с Кинеловским не здоровался, как бы не замечал его. Он был полуеврей, полурусский, по паспорту — русский, а всех евреев вывезли, и они погибли: фашисты зверски уничтожили их где-то под Массандрой; в их числе была Софья Григорьевна, работавшая кассиром музея до войны. Сам Радченко мог побаиваться меня: он сыграл в моей «музыкальной истории» неблаговидную роль, значит, его визит ко мне был разведкой. Я ответил ему: «Скажите Кинеловскому: я — русский честный человек и предателем быть не могу. И скажите ему еще, чтобы он руку не подавал при встрече». При первой же встрече во время оккупации Кинеловский, здороваясь, подал мне руку, и, хотя противно было подавать руку предателю, я ответил ему некрепким пожатием, постеснявшись отказать ему в этом. Пришел ко мне Д.И. Близников, знакомый по Алупке, знавший мою «музыкальную историю». «Теперь можете посчитаться с Кинеловским и Радченко». «А при чем тут вы? К тому же Кинеловский ваш приятель. Передайте им, что я не мститель и не предатель. Пусть не беспокоятся!». Неизвестно, куда делся бедняга Радченко, но с тех пор я больше его не видел. Однажды на музейной площади фашисты собрали немобилизованных мужчин, дезертиров (отставших от частей Красной армии) и вывезли их в Ялту. Большую группу мужчин, несколько сотен человек, пешком повели в Симферополь, поместили в овощехранилище — «картофельный городок», где почти не кормили, и мало кто вышел оттуда живым. Не знаю, чем питались Кореневы в ноябре—декабре. Мне иногда удавалось добыть кусок конины; иногда попадалась павшая лошадь, и собравшаяся возле нее группа голодных людей просила прохожего немца пристрелить ее. И мне доставалась пара кусков мяса. Тогда я имел возможность поделиться с Кореневыми. Однажды в начале декабря я увидел на улице мальчика с книгами в руках. «Откуда книги?» — «Из библиотеки». Я туда. Городская библиотека помещалась в доме с верандой на углу улицы Р. Люксембург. Дверь была открыта, никого нет. Книги на стеллажах. У входа — большая бочка, сверху лед: «параша». Находившаяся в библиотеке румынская воинская часть, ушедшая в Севастополь, устроила здесь себе уборную. Втроем, с Амди и Колей, мы осторожно спустили бочку с лестницы, переволокли ее через улицу и выбросили в руины, оставшиеся от сгоревшего городского клуба. Забили дверь. Я в горуправление: нужно поставить библиотекаря. Нашли подходящего скромного человека лет 40 — Гальперина. Вызывали его в гестапо. Он приносил туда в доказательство, что он — русский, портрет своего отца — русского офицера царской армии. В конце Шуваловского корпуса дворца находилась библиотека дома отдыха им. 10-летия Октября, там разместилась немецкая часть. Книги выбросили из окна. Я выбирал наиболее ценные экземпляры, и Амди с Колей переносили их в нижний этаж библиотеки — в «рабочую библиотеку». Увидел это какой-то офицер, сердито спросил: «Большевистская пропаганда?» — «Нет: Толстой, Достоевский». Эти имена немцы знали хорошо. Но однажды мне пришлось говорить с немцем, свягценником-еван-гелистом, неплохо знавшим русскую литературу, в частности, Лескова. В эти декабрьские морозы я увидел коралловое дерево раскрытым, без ящика, совсем обнаженным, с него были содраны рогожа, тряпье. Мы вновь укутали его и закрыли ящиком. На следующий день ящик был вновь разбит: фашисты боялись, как бы в нем не спрятались партизаны. Поэтому же не разрешали на зиму закрывать скульптуры львов. Дерево вымерзло, и весной пришлось спилить его сухой безжизненный ствол. Но, к радости нашей, весной из корней вскоре полезли ростки! В последующие зимы удалось сохранить дерево в порядке, как раньше, и коралловое дерево опять плодоносило. Татарская школа в Алупке. 1932 г. В середине декабря, стоя в Голубой гостиной на ящике с картиной в руках, я невольно обратил внимание на проходившую из вестибюля группу из пяти-шести офицеров очень высокого роста. Они разговаривали с кем-то, ниже их ростом, находившимся в их кольце. Посторонившись, они пропускали его в Зимний сад. В это время он повернулся лицом ко мне, и я увидел всю его фигуру и лицо анфас. Я обмер, все похолодело во мне: Гитлер! Само исчадие ада! Виновник всех наших бед! ! Я продолжал раскрывать ящик, не обнаруживая своего волнения. Неужели он? Его портреты висели в разных местах на улице. Когда группа, пройдя все комнаты, вернулась в Вестибюль, я быстро прошел туда, увидел, что они сели в машины и уехали на Симеиз, на Севастополь. «Кто это был?» — спросил я у солдата, находившегося здесь среди других. «Фюрер — инкогнито»3, — ответил он. Когда я написал об этом И.З. Вергасову, он (и никто вообще) не поверил мне: «Никому это до сих пор неизвестно», «нет никакого об этом сообщения», «этого не могло быть». Я бы мог сомневаться: увидел похожую физиономию, но... группа офицеров громадного роста, окружавшая его, и «фюрер — инкогнито». Зачем ему было лгать? Зачем мне выдумывать такое? Какой смысл? Поражает: такая смелость, самонадеянность, дерзость, уверенность в себе — ехать в Крым, на передовую линию фронта! Конечно, невероятно! Поверить невозможно в то, что я увидел своими глазами и услышал подтверждение от незнакомого солдата... К Новому, 1942 году, Кухарский подарил мне бутылку вина. При отступлении Красной армии все вино из винных подвалов было вылито в море под охраной милиции. Море было красным у берега. Коллекция вин в Массандре была, кажется, эвакуирована, а остальное вылито в море. Кое-кому, видно, удалось зачерпнуть ведерко. Я принес вино Кореневым накануне, чтобы встретить Новый год. Пришел 31 декабря к 12 часам ночи. Анатолий Григорьевич укоризненно показал на Марию Ивановну: «Всю ночь пила и все выпила». Посмотрев на Марию Ивановну, я ничего не сказал. «Мне как-то грустно было», — промолвила Мария Ивановна. Посидели, почти молча, попили чай с уцелевшими остатками сахара. Есть было нечего! Ночь была ясная, все кругом в снегу. На душе тяжело. Что будет с нами дальше? Гитлер под Севастополем. Фашисты возле Ленинграда, возле Москвы. Вспомнились слова Сталина: «Чужой земли мы не хотим, но своей земли ни пяди не отдадим никому»; Молотова: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!». Но как же допустили до этого? В такой короткий срок? Алупка. Сакли Наутро 2-го или 3-го января 1942 года город проснулся — в Алупке нет ни одного немца, нет комендатуры! И их не было трое суток! Вернулись. Узнал: 2 января части нашей армии высадили десанты в Керчи, Феодосии, Евпатории. Враги боялись десанта и на Южном берегу Крыма. Комендант приказал: всех, живущих ниже нижнего шоссе, переселить в другие дома выше. Кореневых поселили на втором этаже «Базы художников академии им. Репина» в левой стороне в двух комнатах. Перевезли их мебель, находившуюся в одной из комнат дворца. Рядом с ними, в двух комнатах поселили меня. Мебель мою помогли перенести Амди и Николай. Она была у Усеиновых, куда мы перенесли ее с Севастопольской улицы, д. 12, когда я уходил по мобилизации в армию. Меня вызвал комендант: «Прекратить работу! Ни одного человека во дворце! Ключи сдать в комендатуру!». Я обмер. Мой план срывается. Фашисты будут хозяйничать в музее, воровать. «Разрешите бывать в музее мне одному, надо поливать пальмы, растительность всякую, чтобы не погибла». — «Пальмы? Сколько нужно вам времени?» — «Хотя бы часа два». Разрешил. Я закрыл двери дворца. Всех сотрудников попросил приходить также к восьми часам, но только собираться для этого в Верхнем парке и по моему сигналу спускаться во дворец вниз по лестнице — продолжать работать. Когда кто-либо стучал в дверь, я запирал всех в комнатку рядом с Ситцевой комнатой в Вестибюле. Однажды комендант застал врасплох женщину, вытиравшую пол в вестибюле: с потолка капала вода, на крыше снег. Я извинился, указал на капель, упомянул о необходимости ремонта крыши. Комендант разрешил женщине работать. Первое время я ограничивал время работы двумя часами, но постепенно его увеличивал, а когда вскоре появился новый комендант, перестал сдавать ключи в комендатуру. Мы работали опять с утра до вечера, до комендантского часа. Недели две или три в Алупке стояла какая-то воинская часть. Полевая кухня ее расположилась в музейном проезде близ входа в музей. Мария Ивановна попросила у командира части давать обед (для трех человек). Я получал ежедневно три порции густого сладкого супа-лапши, и мы втроем обедали. Нам, голодным, такой суп казался сказочным... Я долго упрашивал горуправление и комендатуру дать мне опять машины для возвращения остальных музейных ценностей. Потеряв терпение, я поехал на попутной машине узнать, хоть в сохранности ли они? Замок висел, но с какой-то печатью. В горуправлении мне сказали, что склад «опечатан» — «Крымской рабочей группой местного штаба имперского руководителя Розенберга». И мне без разрешения этого «штаба Розенберга» никто ничего не даст! Эта организация занималась вывозом из оккупированных мест музейных ценностей и книг из библиотек в Германию. В общем, четко организованная грабительская команда Розенберга. Однажды комендант, после инцидента с картиной, пришел осмотреть все помещения дворца. «Железную» комнату я от него скрыл. В «рабочей библиотеке» книгами он не интересовался, но обратил внимание на шкаф, в котором были дуэльные пистолеты, веер в футляре и несколько иконок (из Ливадийского дворца). Приказал иконы передать в церковь, которая была открыта с разрешения коменданта. Я передал их по акту старосте церкви Перепелицыну. С точки зрения искусства они ценности не представляли, да и не стал я вновь создавать инцидент. В середине марта 1942 года в музей приехал представитель штаба Розенберга, вежливый, в какой-то специальной форме — военной и невоенной. Этот и все последующие приезды моего нового «начальства» каждый раз вызывали тревогу, ожидание чего-либо опасного для музея и для меня. Но штаб Розенберга оказался также и опорой для меня. Мне было выдано удостоверение, в котором было сказано: «Директору Дворца Воронцова господину профессору Щеколдину С.Г. поручено охранять дворец и все, находящееся в нем, и без разрешения штаба Розенберга из дворца никому ничего не выдавать». Печать со свастикой и какая-то подпись. Это стало для меня «охранной грамотой», которой мне пришлось неоднократно пользоваться. Какой-то генерал хотел взять книги почитать, другой — кресло, офицеры — стол со стульями, но все уходили «с носом», ознакомившись с документом! Штабу Розенберга я объяснил, что не имею звания профессора, я — научный работник музея с высшим образованием, но с финансово-экономическим. Мне ответили, что должность директора музея в Германии соответствует званию профессора. Опасаясь того, чтобы меня не заменили немцем-профессором, и тогда бы мой план рухнул, я не стал сопротивляться: пусть кем угодно назовут, лишь бы не мешали! «Начальство», видя, что я освобождаю ящики от содержимого, сказало, чтобы ящики я сохранил в целости (101 ящик!). Это значило — облегчить грабителям вывоз музейных ценностей в Германию! Зима была суровая. Я разрешил своим помощникам разбивать ящики и пользоваться ими дома для отопления. И себе домой таскал вязанками дрова из этих ящиков, топил железную печку, установленную в комнате с выводом трубы в форточку. Так мы израсходовали все ящики! При первом обходе Дворца-музея я показывал «начальству» только те комнаты, на которые обращалось его внимание. В следующий раз (а «оно» приезжало раз в месяц на несколько часов) обход был очень внимательным. В библиотечном зале были три двери, кроме входной: стенной шкаф, вход в библиотечную башню и в комнату, которую мы называли «железной». Это была комната-сейф, закрываемая стальной дверью толщиной в 30 сантиметров. Немец приказал открыть дверь в шкаф, я открыл — он был пуст. На остальные двери он не обратил внимания, видимо, думая, что за ними такая же пустота. В башне были книги второй половины XIX — начала XX века и коллекция газет (в кожаном переплете) XIX века, русских, французских и английских. А в «железной» комнате хранилась коллекция гравюр в количестве 3,5 тыс. листов, карты, всевозможные планы, чертежи дворцов Воронцовых, в том числе Вильяма Гунта, портоланы XV—XVI веков, архив Е. Ушаковой и многое другое, что было описано в моей справке (книжные и некоторые другие фонды по состоянию на 4 мая 1944 года), посланной музею 2 апреля 1983 года. И за все два с половиной года оккупации немцы не узнали об этих фондах. Но что удивительно, я забыл и ни разу не вспомнил о том, что за стеллажами с гравюрами в «железной» комнате находились свернутые рулонами портреты руководителей партии и Советского правительства, плакаты. Я вспомнил о них, когда мы украшали ими стены музея и подъезды к нему к 1 Мая 1944 года. Вспомнил и ужаснулся: какому риску я подвергал себя и других! Что если фашисты обнаружили бы содержание сокрытых фондов? Полуобнаженная женщина. Копия с картины Гвидо Рени В «рабочей библиотеке» немец из штаба Розенберга, увидев книги и журналы, приказал все, изданное после 1917 года, приготовить к отправке в Симферополь. Он пришлет за ними машины. «Зачем?» — «Мы сделаем выставку книг». Я, конечно, понимал, что они устроят аутодафе! Городской библиотеке он дал такое же распоряжение. «Но есть произведения М. Горького, написанные им до 1917 года». — «М. Горького отправьте все, когда бы он ни написал: его именем в Севастополе назван один дзот». Я посоветовал Гальперину все книги М. Горького спрятать в подвал, что он и сделал. Все книги «рабочей библиотеки», изданные после 1917 года, я вечерами (не считаясь с комендантским часом) в мешке перетащил домой через парк во вторую комнату, где И.С. Минаков сделал стеллаж от пола до потолка, и завесил тряпками. В шкафах «рабочей библиотеки» я оставил только периодические журналы «Большевик» и др. Машина, приехавшая через несколько дней, забрала из музея только эти журналы, а к городской библиотеке и не подъехала. Удивительно, почему штаб Розенберга удовлетворился мною посланным, не проверил выполнение своего распоряжения? Однажды после закрытия музея, в комендантский час, вечером приехал из штаба немец и пришел ко мне домой. Посидел полчаса, расспрашивал меня: где я учился, где жил раньше. Я со страхом ждал: зайдет ли он в другую комнату, не посмотрит ли, что скрыто за занавеской? Ведь я сохранил на книгах наклеенные на них инвентарные музейные номера. Что будет со мной? (В эти оккупационные годы я увидел и на себе испытал не раз: немцы доверяют, верят на слово, но если их обманули, этому человеку больше не верят, жестоко расправляются с ним.) «Штабист» не зашел в другую комнату. Он обратил внимание на несколько полок с книгами моей личной библиотеки и спросил: «Вы много читаете?». Но не спросил: какие книги у меня? И ушел, и больше у меня дома не был. Полчаса напряженного ожидания, полчаса страха. Все эти годы я так и работал — в ожидании чего-либо опасного для музея, для себя. А в апреле 1944 года ко мне зашел милиционер и, увидев музейные книги, которые я еще не успел перенести в музей, сказал: «Сколько книг из музея наворовал!». Шуваловский проезд, где располагалась немецкая воинская часть Однажды я получил письмо из штаба с требованием сообщить обратным письмом: сколько помещений во дворце, где они расположены и что в них находится? Это требование меня ошеломило, вызвало смятение. Я не знал, как выйти из создавшегося положения: конечно, я должен написать правду. За ложь меня жестоко накажут, могут, самое легкое (а для меня самое тяжелое), снять с работы, выгнать! Я должен скрыть «железную» комнату! В бессонную ночь я решил в перечень помещений ее не включать. Не включил. И принял на себя муки ожидания возмездия. Мои юные помощники знали, что никому никогда не должно быть известно, что находится за этими дверьми «шкафа». Так и не были оккупанты ни в библиотечной башне, ни в «железной» комнате. Работали мы напряженно, несмотря на холод и голод. А я, словно одержимый, с одной мыслью: скорее развесить, разложить, спрятать, что можно, закончить экспозицию. Но однажды, в одно холодное утро, я не смог встать от слабости. Прибежал Амди: мои помощники уже все пришли, надо открывать дворец. Отдав ему ключи, я попросил зайти к одной знакомой семье, сообщить обо мне. Вскоре принесли пару котлет из конины. Взбодрившись, пошел на работу. С весны 1942 года штаб присылал ежемесячно деньги на зарплату для штата работников дворца. Я составлял ведомость по фамилиям и каждому, в том числе и себе, выписывал поровну: по 40 марок. Все расписывались в получении, ведомость отсылали обратно. Штаб не вмешивался в это распределение денег. А.Г. Коренев и его жена в течение всей зимы 1941—1942 года во дворце не появлялись. С планом моим — восстановить экспозицию музея из всего имеющегося — он согласился. И уже весной 1942 года, когда к 1 Мая экспозиция была завершена, он пришел, осмотрел молча и ничего не сказал. На мой вопрос: «Не нужно ли что-либо изменить?» — он как-то равнодушно, отчужденно сказал: «Пусть так». Эта отрешенность от музея и словно равнодушие к нашей работе были мне непонятны, и было мне больно. Анатолий Григорьевич замкнулся в себе, молчал и во дворец больше не приходил. Я приходил к Кореневым ежедневно по утрам и вечерам и выносил из ведер: туалет был на первом этаже. Изредка присаживался, чтобы сообщить какие-либо новости. Но однажды, увидев, что по креслам ползли вши, я перестал садиться. Проезжавшие мимо дворца на Севастополь немцы и румыны, если останавливались на площади, шли в музей группами и в одиночку. Амди и Николай сопровождали их. Смотрители следили за тем, чтобы не украли что-либо. Если помощники были заняты, вызывали меня. Таким образом, волей-неволей мы превратились в экскурсоводов. Юноши довольно скоро стали говорить по-немецки. Они окончили курс средней школы. Дворец-музей работал с 8 часов утра до комендантского часа (до темноты). Все два с половиной года без выходных дней. Если в Алупку приезжал какой-либо «чин», за мной приезжали рано утром. Я не принадлежал себе. В мае 1942 года очередной комендант, довольно добродушный пожилой толстяк, сказал мне, что нам необходимо брать деньги за вход в музей: «Ведь вам нужны деньги, вам надо кушать». И я посадил кассира в вестибюле перед входом. Бланки билетов в музее были. Штаб установил входную плату — 2 марки с военных, с населения по 3 марки. Но населению было не до музея, никто не приходил, а если кто-либо заходил из любопытства, мы денег не брали. Я приглашал учащихся школ (школы работали) и учителей и проводил экскурсии для учащихся и групп учителей бесплатно. Нас никто не контролировал. Выручку кассир Лариса Ивановна Чернышева сдавала в кассу горуправления. И это были большие суммы денег, они шли на питание голодающего населения города. А немцы и румыны шли и шли на Севастополь. Бомбежки все ужесточались, и мы слышали беспрерывный гул, от которого дрожали стекла в домах. И это в течение нескольких месяцев! Алупка. Альгамбра Появилась масса больших синих трупных мух. Они тучами проникали в музей: задерживались на окнах библиотечного зала и всюду, куда могли попасть. Мы травили их газом горящей серы. По распоряжению комендатуры все население было обязано принимать таблетки во избежание заражения. Однажды приехал генерал с женщиной и адъютантом и попросил показать дворец. После просмотра он спросил о втором этаже дворца, смотря на него со двора. Я, заподозрив, не собирается ли он здесь поселиться, соврал, что там нет удобства для жилья. У отошедшего в сторону адъютанта я узнал: «Генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн». Когда они удалились к машине, я, стоя на пороге, сказал вполголоса: «Какая стерва». Это относилось к женщине — красивой, с холодным презрительным высокомерным взглядом, очень похожей на Александру Федоровну — жену Николая I, портрет которой висел в вестибюле. И вдруг адъютант пошел к музею: «Что вы сказали?» — «Я сказал: какая красивая женщина». И они уехали. А в вестибюле дружно смеялись ребята. Ко мне обратилась после осмотра музея группа офицеров с просьбой навестить их: «Мы хотим поговорить с вами — русским интеллигентом». Удивившись, я дал согласие, но вскоре о них забыл. Через несколько дней солдат принес в музей записку: «Сегодня в 18 часов мы ждем Вас». Весьма смущенный: «Зачем? Чего они хотят от меня?» — ровно в 6 часов вечера я пришел в бывший Дом отдыха ВЦСПС № 3, где квартировала их часть. Меня ждали за столом шесть офицеров в возрасте от 25 до 30 лет, у всех кружки с чаем, на тарелках бутерброды с колбасой. Попросили сесть, денщик налил мне чаю, придвинул тарелку с бутербродами. «Мы хотим побеседовать с вами откровенно, задать ряд вопросов. О нашей беседе никто не узнает. Завтра утром мы уезжаем на Севастополь». — «Вы все национал-социалисты?» — «Да». — «Я согласен, но с условием: на мои вопросы Вы ответите так же откровенно». — «Согласны». В это время вошел солдат с телеграммой: одному из офицеров пришло время идти в отпуск, и он уезжал в Берлин. Офицер попрощался с товарищами и ушел. Беседа длилась более двух часов, но привожу ее здесь очень кратко. Офицеры не забывали угощать меня, а я, изголодавшись, выпил не одну кружку сладкого чая и съел содержимое не одной тарелки. «Много ли еще у Сталина солдат? Геббельс пишет, что Красная армия разбита». — «Это пропаганда!» — «Но мы уже под Ленинградом и под Москвой!» — «В Сибири еще много людей!» — «Как, по вашему мнению, мы победим?» — «Вы должны знать историю. Наполеон был в Москве, но не победил». — «Теперь другая техника». — «Техника есть и у нас, но дело не только в технике, но и в любви к Родине». — «Как относятся советские люди к нашим победам, к оккупации?» — «Одни, патриоты, борются и надеются на поражение Германии, другие, бывшие репрессированные, перешли на вашу сторону, изменили Родине. Таких, я думаю, немного». — «А как вы думаете?» (Вопрос прямо в лоб, с фашистской бестактностью.) — «Мое сердце плачет о Родине. Война с Россией — ошибка Германии. Бисмарк предостерегал от такой ошибки. Россию победить нельзя никому. Германия проиграет и эту войну!». Офицеры замолчали. «Ваша ошибка в том, что вы высокомерно провозглашаете себя высшей расой: "Германия превыше всех, другие нации для вас ничто. Кто вам дал право уничтожать их, например, евреев?"» — «Это румыны, не мы». — «Мы условились говорить откровенно. Вы нарушаете условия». Смущенно молчали. Наконец, один из них, постарше: «Садовник уничтожает сорняк в своем саду». — «А кто вам дал право человека считать лишним, сорняком в природе? Ваши солдаты носят ремни с пряжками, на которых написано: "С нами Бог". Может ли Бог разрешать убивать человека?» Молчали. Мы говорили много об истории, о литературе Германии и России. Я упрекал их в незнании русской культуры, в то время как мы хорошо знаем и ценим немецкую культуру. Немцы поблагодарили за интересную беседу, один из них проводил меня до дома и вручил пакет с бутербродами и сигаретами. А если они сообщат обо мне в гестапо? Утром я побежал в Дом отдыха ВЦСПС. Он был пуст, все ушли на фронт. Несколько дней я еще беспокоился. Но сдержали немцы свое офицерское слово, не выдали! Через полгода ко мне подошел офицер и напомнил, что он из тех шести. Он был в отпуске и сообщил: все пять офицеров погибли под Севастополем. И добавил: «Наша победа мне представляется скорее поражением». — «Желаю вам и оставаться при таком мнении». Библиотека. Справа — вход в «железную» комнату Однажды я увидел издали: какой-то немец перешагнул шнур в Бильярдной комнате, — я быстро туда. Немец, отодвинув стул, сидел за столом, смотрел на картины. «На мебели сидеть нельзя, ей сто лет, мы бережем ее». Немец быстро встал, поставил стул на место, перешагнул шнур: «Кто ты такой?» — Сурово, стальными глазами из-под седых бровей, смотрел на меня высокий, на две головы выше меня, худощавый человек в непонятной форме, в шортах вместо брюк. «Я хранитель музея». — «Да знаешь ли ты, с кем говоришь?» — «С господином офицером германской армии». — «Я шеф СС Крыма». Что-то холодом прошло по моим ногам, я едва не пошатнулся, но быстро овладел собой: «Тогда, как культурный человек, вы поймете меня». Видимо, польстила этому зверю моя умышленная лесть: «Покажите музей». У меня отлегло: уже на вы! Посмотрел всю экспозицию, ушел. Как бы не случилось чего из-за этой встречи... Примерно через час за мной пришел солдат: «Пойдем за мной». Опять холодом сжало сердце: привел в гестапо, помещавшееся в подвале Шуваловского корпуса. В комнате за столом сидел один гестаповец, рядом — этот шеф СС Крыма. «Говорите правду, рядом с вами живет Кинеловский, он еврей?». Мне стало очень не по себе от такого неожиданного вопроса. Я знал, что Кинеловский был полуеврей: мать русская. «Он русский». — «Откуда вы это знаете? Вы будете отвечать за ложь». — «Я говорю то, что знаю: мы были знакомы еще в Москве, мы — москвичи». — «Идите». Я прямо к Кинеловскому, увидел его возле дома. «Валентин Сергеевич, меня вызывали в гестапо, спрашивали о вас как о еврее. Я сказал, что вы русский и мы с вами знакомы еще по Москве, повторите им то же самое, если позовут». Кинеловский побледнел: «Спасибо, Степан Григорьевич». Арестовали Виленскую, бывшего главврача санаторной поликлиники, размещавшейся в хозяйственном корпусе дворцового ансамбля. Она еврейка. Мы, интеллигенция Алупки, подавали подписанное нами ходатайство с просьбой сохранить ей жизнь. Ее не трогали полгода после уничтожения евреев. Муж ее — русский поляк, главный врач алупкинской городской поликлиники Могилевский пошел с ней, когда ее повели на расстрел в окрестностях Алупки, и не отходил от нее, несмотря на требования фашистов. Их расстреляли обоих... Повесили двух юношей — братьев Говыриных — за то, что у них иногда ночевали партизаны с гор. Я видел, как возле улицы Красных партизан остановилась машина-фургон, из открытой задней двери показалось безжизненное тело юноши, его держали руки палача-фашиста в черных перчатках, другой палач принимал тело, сидя на ветках дерева, и накидывал ему на шею петлю. Голова словно безмолвно сопротивлялась. То же произошло и с его братом. Должно быть, их избили до потери сознания или усыпили какими-либо уколами. Неподалеку стоял народ, молчал. Проходившие мимо меня два немецких офицера сказали тихо: «Нехорошо». После казни палач громко по-русски крикнул: «Так будет со всеми, кто помогает партизанам!». Тела юношей висели три дня. Шеф пропаганды Крыма Бауман, свободно говоривший по-русски, в переполненном зале клуба говорил о «благоденствии» для населения, «освобожденного от большевиков» при новом порядке. А наутро на площади перед дворцом стоял грузовик. Полицейские сгоняли девушек и сажали в машину. Бауман стоял у порога дворца. Девушки вырывались, полицейские гонялись за ними. Плач, крики. Не вытерпев такого «зрелища», я сказал Бауману: «Вчера вы обещали "благоденствие" для населения. Это и есть ваш "новый порядок?"» — «Германии нужна помощь в рабочей силе». — «Если бы Красная армия заняла территорию Германии и нам понадобилась бы рабочая сила для России, мы так смогли бы сагитировать ваших девушек, что они с песнями ехали бы работать в Россию, а не при помощи милиции». Бауман оглянулся на меня: «Вы большевик?» «Беспартийный», — ответили, почувствовав, что сказал лишнее. Хотели взять дочь нашего музейного садовника Труфанова. Я побежал к коменданту, упросил его дать мне записку к Бауману — отпустили. Через несколько месяцев арестовали Труфанова, якобы за связь с партизанами. Дочь взмолилась. Я пошел в гестапо, просил освободить, ручался в невиновности тихого, скромного садовника. Отпустили, но сказали, что я буду отвечать, если связь его с партизанами подтвердится. (В 50-х годах, будучи в Алупке, я нашел Труфанова с дочерью. Они рассказали, что Труфанов действительно был связан с партизанами.) Северный фасад дворца Через неделю меня вызвали в штаб Розенберга: «Нам неясна ваша позиция по отношению к нам. Нам неизвестно ваше политическое лицо». — «Разве я плохо работаю?» — «Мы вас спрашиваем не о работе, а о ваших политических взглядах». — «Что же я должен сказать?» — «Не сказать, а написать, а мы опубликуем в газете "Голос Крыма"». — «Что же я должен написать?» — «Что хотите. Садитесь и пишите». Чувствуя, что горю, я, поразмыслив, написал статью об Алупкинском дворце графа Воронцова: о строительстве, архитектуре, о художественных ценностях музея — и подписался. «Статья эта не отражает вашего отношения к нам и к большевикам». — «Я не понимаю, как это увязать с темой моей статьи о дворце». Штабист уже нервничал: «Пишите, что я буду говорить», — и продиктовал гнусную антисоветскую фразу. Я написал. «Мы отошлем ее редактору газеты». — «Разрешите, я отнесу ее сам?» — «Несите». Редактор, русский, интеллигентный человек, прочитав статью, поморщился: «У вас хорошая статья, написана культурным языком, но зачем вам понадобилось закончить ее неуклюжей фразой, не вяжущейся с ее содержанием?». Я промолчал. «Вы не возражаете, если мы напечатаем вашу статью без этой фразы?» — «Я не возражаю». — «Ну вот и прекрасно! Прошу вас, пишите нам в газету о русской культуре: о литературе, философии, об искусстве». Поблагодарив редактора, я уехал в Алупку. Больше я, конечно, не писал, а свою статью прочитал без этой «неуклюжей» фразы. Через некоторое время я услышал, что редактора сняли с работы. Но штаб Розенберга, к моему удивлению, ко мне больше не приставал, а я старался впредь язык держать за зубами. В штабе я видел на складе в стеллажах картины нашего и Русского музеев, картины Симферопольской картинной галереи. Я просил и писал о возврате их в Алупку для экспозиции на втором этаже. Ответили: «В Симферополе картины будут надежнее сохранены от бомбежек...». А.Г. Коренев заметно хирел, мрачнел, молчал. В июне или в июле 1942 года слег, лежал недолго, умер во вшах. Мы похоронили его. Кроме нас, сотрудников Дворца-музея, на кладбище был один городской архитектор Базилевич. Я произнес краткую речь, в которой рассказал о жизни Анатолия Григорьевича, о значении его деятельности в создании некоторых крымских музеев, Севастопольской картинной галереи, о том, что советское правительство отметило его заслуги, присвоив ему звание заслуженного деятеля искусств. М.И. Коренева уехала в Симферополь к своей знакомой. Один раз я навестил ее, и она пожаловалась мне, что обменяла дорогое колье на муку и сахар, а немец-интендант обманул ее, не принес ей мешок сахара. Дальнейшая судьба ее мне неизвестна. Безуспешно я обращался в горуправление с просьбой как-то отметить могилу А.Г. Коренева, поставить хотя бы ограду, но до сих пор на могиле лежит безымянная плита. 2 июля 1942 года наши войска оставили Севастополь — после двухсот пятидесяти дней героической защиты. По этому поводу фашисты устроили банкет в Парадной столовой музея. Комендант приказал мне выдать воронцовскую посуду. Я составил список взятой посуды, и по моей просьбе комендант расписался под списком. На банкете пели артистки Ялтинской филармонии, советские артистки. Я не слышал и не видел, что и как они пели. Я думал, что у них было на душе? Думали ли они о погибших братьях и сестрах, защищавших Севастополь? И как, чем заставили их петь. Заперев дверь в зал библиотеки, я сидел на крыше (неподалеку почему-то сел солдат — следить за мной, что ли?) и слушал. В Итальянском парке, перед окнами Парадной столовой играл оркестр. Великолепно исполнялись симфонические произведения Вагнера: увертюра к опере «Тангейзер», «Полет Валькирии», вступление к опере «Лоэнгрин» и др. Они празднуют... А я думал об истерзанном Севастополе.. При возврате посуды не хватило одной фарфоровой пепельницы (в форме виноградного листа). Заявил коменданту, нашли, вернули. Через многие годы Амди Кязимович рассказал мне: денщики припрятывали бутылки шампанского в цветах Зимнего сада, и мои юноши ловко уменьшали запасы денщиков... Амди Усеинов, 16 лет. Алупка Однажды явились два эксперта-искусствоведа из Берлина с заданием переписать картины-подлинники для изъятия. Я поспешил их уведомить, что подлинников они здесь не найдут, все — копии. «Эксперты», осматривая картины, «убеждались» в правоте моего заявления. Даже «Политик» Вильяма Хогарта, находившийся в экспозиции в бильярдной комнате, был признан ими копией: «В России? В Алупке? Конечно, копия. У нас в Германии нет ни одного подлинника В. Хогарта». Если бы они повернули картину, они увидели бы подпись профессора и сургучную печать Британского Королевского музея, удостоверяющую подлинность картины. После этого я уже смело называл подлинники копиями, и «экспертам» ничего не пришлось записывать. Единственный подлинник они сразу изъяли из фонда: картину художника Герасимова «В.И. Ленин на собрании провозглашает победу Великой Октябрьской Социалистической революции и утверждение Советской власти». Как-то граф Келлер (знакомая по Москве фамилия: владелец знаменитой в прошлом аптеки на Никольской улице) сказал, что он здесь с поручением: подыскать получше дома отдыха для румынских офицеров (этого румынам не удалось сделать, немцы не разрешили). Келлер представил мне свою жену и сказал, что она имеет ко мне просьбу. Она попросила поговорить с ней наедине. Весьма удивленный, я пригласил ее в комнату (между Голубой гостиной и Зимним садом), бывшую моим рабочим местом. «Я хотела бы приобрести картину Айвазовского». — «Здесь не магазин, а музей», — сразу прервал я ее. «Извините, пожалуйста, я знаю, что вы голодаете, а я могла бы взамен дать бочонок сливочного масла в 20 кг». Я, возмущенный таким предложением, кипел: «Это все, о чем вы хотели говорить со мной?» — «Простите, еще мешок сахара», — волнуясь, проговорила она. «Извините, сударыня, я не торговец музейными ценностями», — встал, поклонился и открыл дверь. Женщина, покраснев, вышла. А я остался в комнате, сел, чтобы успокоиться. Больше я их не видел. Крыша дворца протекала, капало с потолка в вестибюле. Обратился за помощью к архитектору Старикову, узнав, что он в Алупке, в своем доме. Он отказался, сказав, что приехал на пару дней: жена его работала у немцев в Симферополе в сельхозуправлении, а он там — архитектором. Пошел к архитектору Базилевичу. С Базилевичем мы нашли под железной крышей желоб из свинца и то место, где был свищ, сквозь который протекала вода. Обратился в горуправление. Починили. Починили трубы, ведущие к Фонтану слез, фонтан заработал. Однажды напротив лестницы, ведущей на второй этаж, я услышал свист фонтанирующей воды. Там направо был в стене шкафчик, куда смотрители складывали ведра, тряпки. Свист слышался из этого шкафчика. Вынув все содержимое, я полез туда и обнаружил проход налево. Согнувшись вдвое, пролез и очутился в туннеле. Стал во весь рост. Туннель спускался в сторону моря. Над туннелем — свинцовая водопроводная труба. Из свища со свистом била вода. Утечка питьевой воды! Починили. Позже комендант сталинских дач Власик замуровал этот вход в туннель. И теперь, сорок с лишним лет спустя, о нем никто ничего не знает. Если вновь образуется свищ, город будет терять воду. Амди Усеинов. 1943 г. По наряду сельхозкоменданта (кроме городской комендатуры была и сельхозкомендатура, ведающая изъятием у населения урожая винограда, порубкой леса) получал дрова для отопления, согревались у камина в Вестибюле. Дворец, его архитектура, интерьеры, экспозиция — все неизменно приводило в восхищение посетителей, и не раз я слышал от них, что знаменитый дворец Фридриха Великого Сан-Суси в Потсдаме намного уступает по красоте и величию Алупкинскому дворцу. Постоянно приходилось слышать их возгласы при входе в Парадную столовую: «Великолепно! Прекрасно! Восхитительно!». Один лейтенант, выйдя в Альгамбру: «Это было без саксофона!» — выразил этой лаконичной, но всеобъемлющей фразой все свое отношение к истинной красоте искусства и отрицательное отношение к модернистской музыке и к модернизму вообще. В Альгамбре же я как-то увидел: толстый солдат сидит верхом на скульптуре льва, другой, посмеиваясь, стоит рядом! Я высказал им свое негодование. Солдат соскочил, извиняясь: «Мы пасторы, попы». — «Какой же пример вы, священники, показываете солдатам?». Один фашист решил, видимо, «распропагандировать» меня после осмотра музея: «Наш фюрер написал великую книгу "Mein Kampf" — "Моя борьба". Мы должны все ее изучать». И я вспомнил: директор музея Портной провел с нами первое занятие (и последнее) по изучению «Краткого курса ВКП (б)», охарактеризовав его так: «Это великая книга, другой такой или по подобной ей на протяжении всей истории человечества не было». И я спросил фашиста: «Вы должны ее изучать или хотите изучать?». Он молчал, я повторил: «Должны или хотите?». Фашист понял иронию, раздраженно пробурчал скороговоркой: «Wollen, sollen. Wollen, sollen» («Должны, хотите. Должны, хотите») — и, недовольный, отошел от меня. Иную цель преследовал другой солдат: в конце рабочего дня он попросил меня побеседовать с ним наедине, чтобы никто нас не слышал. Меня это заинтересовало и насторожило. Все ушли. Я запер музей, и мы уединились на втором этаже. С полчаса солдат вполголоса рассказывал о сущности фашизма, гитлеровской политике, говорил о рабстве, грозящем советскому народу, просил не верить Гитлеру и т. д., то есть я услышал все, что мы, советские люди, знали. Я слушал внимательно, не говоря ни слова, не задавая ему никаких вопросов, ничем не выказывая своего отношения к услышанному, думая, не провокация ли это? Мы привыкли к провокационным разговорам, шпионам-стукачам, привыкли не доверять никому. Окончив свою речь, он попросил как можно осторожнее вывести его из музея, чтобы никто не заметил. Пожелав ему остаться живым, я выпустил его из нижнего входа, и он быстро ушел в парк. Некоторые одиночные посетители проявляли слишком «углубленную любовь к искусству». В Китайской комнате на камине перед венецианским зеркалом красовалась «Психея» — бронзовая фигурка нагой девушки с крылышками, присевшей, чтобы поймать бабочку. И вдруг Агриппина Герасимовна с ужасом сообщила мне, что вот сейчас вон тот офицер, уходящий по Львиной террасе, украл «Психею». Я вышел в Альгамбру, спросил у стоявших там двух офицеров, где размещается часть того офицера, и пошел к коменданту. «Вы оскорбляете честь офицера германской армии, заявляя, что он украл!» — закричал на меня фашист. «Вы меня можете наказать, если я солгал». — «Приходите завтра!». Бильярдная комната. Довоенная экспозиция Бедная Агриппина Герасимовна была в отчаянии! Она всегда с гордостью говорила: «Я музейный работник. Я так люблю Дворец-музей». По ее просьбе на следующий день к коменданту пошел ее сын: на столе уже стояла «Психея». А.Г. Минакова замечала, что этот немец, поклонник искусства, часто приходил любоваться «Психеей» и каждый раз понемножку отвинчивал фигуру от постамента. Постамент остался на камине... Цела ли теперь «Психея»? Она была цела до 4 мая 1944 года, как цел был ковер в бильярдной комнате, как мебель из Ливадийского дворца, стоявшая на втором этаже. Или они украшают апартаменты Кагановичей — дачников Алупкинского дворца? Однажды, спустившись в «рабочую библиотеку», я увидел молодого офицера, раскрывшего шкаф и рассматривавшего дуэльные пистолеты, лежавшие в футляре. «Что вы здесь делаете? И как сюда вошли?». Немец показал на окно. «Для входа в музей у нас есть двери. Идите, я покажу их». Немца я выпроводил, а И.С. Минакова попросил забить окна, чтобы они не открывались. Где теперь дуэльные пистолеты и веер из страусовых перьев, лежавший в футляре в том же шкафу (а тогда, в 30—40-е годы, он сохранял еще аромат духов)? Была и более солидная попытка изъятия из музея: скульптуры львов! Осматривавший музей какой-то генерал (мне не удалось узнать его фамилию) сказал другому генералу довольно решительным и директивным тоном о своем желании вывезти скульптуры львов в Берлин. Я ничего не сказал: слова эти были обращены не ко мне. На следующий день я поехал в штаб и довольно резко произнес: «Я обязан вам заявить о таком варварском намерении». Штабист ответил мне, что я оскорбляю германского генерала. По возвращении домой я был вызван комендантом, который свирепо накричал на меня и за то, что я «оскорбил германского генерала», и за то, что ездил в Симферополь без разрешения: «В тюрьму на 15 суток!». Вызванные полицейские схватили меня под руки, словно я сопротивлялся; я сильно оттолкнул их от себя: «Выслуживаетесь, гады!». Полицейские, применяя силу, с побоями поволокли меня в тюрьму: одна комната с несколькими голыми железными кроватями без матрацев и подушек. Пробыл я в ней одни сутки: начальник полиции, знакомый мне бывший культработник дома отдыха в Алупке, выпустил меня из тюрьмы, и я пробыл в комнатах полиции, не показываясь во дворе, дней семь. Кормили «баландой»: похлебка без хлеба. Кто-то приносил козьего молока. Что-то приносила поесть мать Амди, Афизе Асановна, скромная женщина, всегда очень хорошо относившаяся ко мне. Работавших в городе кормили «баландой». Качество ее постепенно улучшалось, по мере того как стали привозить из степи пшеницу. Хлеба по 400 граммов стали выдавать с марта 1942 года, вначале из горелой пшеницы: при отступлении Красной армии власти сжигали пшеницу, помня приказ Сталина: «Ничего не оставлять врагу!». А враг ел буханки хлеба, на которых была выдавлена дата его выпечки — 1939. Буханки в целлофановой упаковке. Гитлер готовился к войне с нами с этого года, подписывая договор с СССР о ненападении. Мне приходилось пробовать этот хлеб: свежесть вчерашнего хлеба. Летом 1943 года мы были поражены — в музей привезли портреты Александра I (художника Джорджа Доу), Николая I (художника Голике) и все фамильные портреты, бывшие в нашей экспозиции до войны в Парадной столовой: С.Р. и М.С. Воронцовых и Браницкой с семьей (Анжелики Кауфман). Они были в трофейном музее в Берлине. Фамильные портреты мы поместили в той же довоенной экспозиции в Парадной столовой. Портрет Александра I, как раньше, — в Вестибюле, налево от выхода в Альгамбру. Портрет Николая I — направо от него. Поразительна слепая уверенность Гитлера в победе, когда Советская армия гнала немецкую на Запад! После разгрома фашистов в Сталинграде по этому поводу над комендатурой три дня висели траурные флаги. В подтверждение того же: в 1943 году, летом, немцы завезли в Крым племенной скот, создав где-то в степи «госхоз». В. Хогарт. Политик Как-то из двери музея, это было лето 43-го, я увидел одинокую фигуру старика, с узкой бородкой, в берете, с котомкой за плечами, ящиком-чемоданом в руке, шедшего по площади мимо музея. Федор Гольц! С этим художником я познакомился в Алуште в 1936 году, где работал старшим бухгалтером «Крымкурортснабторга». В его мастерской стоял триптих (2×1,5 м каждая часть) «Расстрел руководителей первого крымского советского правительства белогвардейцами». Он произвел на меня потрясающее впечатление. Он жаловался мне тогда на тяжелую жизнь: правительство Крымской АССР отказывалось купить эту картину, им же заказанную. Позже ее купил Музей Революции в Москве. Теперь Федор Гольц ушел из Алушты, где он работал переводчиком у немцев. Мне стало жаль старика, он поселился у меня. Я разрешил ему копировать Айвазовского для продажи: питаться средств не было, я делился с ним, чем мог. А покупать было что: был кое-какой базар, частные буфеты, предпринимательство разрешалось. Но я не видел, чтобы он продавал свои копии, а копировал он мастерски. За беседами по вечерам мы горячились и спорили об искусстве. Все это было терпимо, но как только были затронуты политические темы, мне стало невыносимо. И когда он стал снисходительно отзываться о немцах, а партизан называл бандитами, я попросил его уйти от меня. (Он где-то поселился, а когда оккупанты отступали на Севастополь, исчез из Алупки. По-видимому, он опасался ареста, когда нас освободят от врагов.) Споря, мы так громко кричали, что, вероятно, это было слышно на первом этаже, где жил Кинеловский. И в доносе на меня Кинеловский слова Ф. Гольца о партизанах приписал мне. Вместе с Ф. Гольцем я ходил с тачкой в Симеиз — в обсерваторию. Оттуда перевезли во дворец несколько книг из библиотеки и рукописи профессора Неуймина, побоявшись, как бы их не уничтожили. Оборудование обсерватории фашисты увезли. Там мы увидели научную сотрудницу обсерватории, уезжавшую на грузовой машине, нагруженной книгами, в Германию. Привезенное на тачке мы поместили в «рабочей библиотеке» музея. А в Симферополе я встретил научную сотрудницу Никитского ботанического сада — она увозила с собой в Германию ценный гербарий. Летом 1943 года в Дворце-музее было особенно много посетителей. Стремительно, широкими шагами, словно ворвался в Вестибюль Гиммлер. «Коммунист?» — обратился ко мне. «Нет, не коммунист». — «Все вы коммунисты, а теперь нет? Ведите по дворцу». И такими же шагами устремился в Голубую гостиную. Я чуть не в шоковом состоянии еле поспевал за ним, еле лепетал названия экспонатов. Быстро прошагали до Бильярдной и обратно. А.Г. Минакова показала на Ситцевую комнату. «Не имею времени», — быстро проронил Гиммлер и выскочил в дверь. Лишь только сел, машина сорвалась с места, помчалась в Симеиз. Внезапно загудел самолет, раздались пулеметные очереди. Я зашел в комендатуру, сказал, что, если не ошибаюсь, был Гиммлер. Они знали об этом и ответили, что за ним гналась английская разведка по всему его пути и обстреляла комендатуру. Был Дорбмюллер — министр железнодорожного транспорта, генерал Пантази — военный министр Румынии — «министр на война», как сказали румынские солдаты, оказавшиеся в это время в Вестибюле, и добавили — «министр на разбой», и я не понял: это перевод на русский язык или войну румыны считают разбоем? Пантази вошел важно, держа в руке перед собой какой-то красивый жезл, высокомерно обратился ко мне, но, не увидев с моей стороны никакого почтения, через несколько минут взял жезл под мышку, высокомерие исчезло, и вел он себя непринужденно. Его фотограф юлил перед ним, фотографировал с разных сторон, пока Пантази не отстранил его. А после экскурсии, в Альгамбре, он открыл передо мной шикарный портсигар. Какая-то смешная, бутафорская фигура! Приехала пожилая женщина — княгиня, тетка румынского короля Михая с двумя дочерьми и двумя офицерами: «Вы, должно быть, счастливы, живете и работаете в таком прекрасном месте?» — «Да, я счастлив». — «Это прекраснейшее место на земле! Я объездила весь мир, и такого прекрасного места я не видела». (Румыны разговаривали со мной по-немецки). Китайский кабинет. Довоенная экспозиция Однажды я шел с обеда, меня остановил румынский солдат с автоматом: дворец окружен румынами. Я показал бумажку, солдат, увидев печать с фашистской свастикой, пропустил. В Вестибюле сидел румын — капитан, начальник охраны: едет Михай, король Румынии. Капитан рассказал нам о Михае, о его отце и мачехе. На площадь выехало машин пятнадцать, первой машиной правил Михай, молодой человек, как писали в газете, 24-х лет. Войдя в Вестибюль, он снял перчатку и, здороваясь со мной, сказал по-русски: «Здравствуйте». Я сказал, что знаю немецкий, Михай попросил говорить по-немецки. Я вспомнил слова экскурсовода нашего музея Ивана Кузьмича Борисова, с которым у меня были дружеские отношения: «Мне все равно, кого вести в экскурсии, хоть римского папу». За мною и Михаем шли парами румынские и немецкие генералы, в их числе Антонеску. Увидев в Зимнем саду античную скульптуру, Михай спросил, откуда она? Я рассказал о мысе Ай-Тодор, бывших имениях великих князей Романовых, об остатках там античных раскопок. Михай попросил меня показать раскопки на этом мысе. («Этого еще не хватало», — подумал я.) «Побережье минировано, это опасно!». Когда говорил Михаю, меня несколько раз за пиджак дергал какой-то генерал: «Sagen sie Vorte Majeste, sagen sie, bitte, Vorte Majeste» («Говорите: "ваше величество!", говорите, пожалуйста: "ваше величество!"»). Несколько раз я произносил эти слова, но все время забывал о них, они казались мне нелепыми вставками в разговоре, и я затем обходился без них. Мне казалось, что Михай хочет спросить о чем-то не при генералах, и когда мы выходили из дворца и от Фонтана слез шли к Львиной террасе, вся эта свита отстала от нас, и Михай спросил: «Куда делись великие князья Романовы с мыса Ай-Тодор?» — «Уехали за границу». — «Правда ли, что Николая Романова большевики расстреляли?» — «Да, правда». — «И его семейство?» — «Да, всех». — «А великих князей Романовых, если бы они не уехали за границу?» — «Я думаю, что и их бы расстреляли». Мне любопытны были эти вопросы Михая, и я вспомнил о них уже в лагере, в 1945 году, прочитав в газете, что Сталин наградил короля Михая орденом Победы за то, что он повернул орудия румын против своих союзников и тем помог нашим войскам победить фашистскую Германию. Когда мы поднимались по Львиной террасе (я вдвоем с Михаем, позади три генерала, за ними — четыре и т. д.), кинооператор сверху снимал эту процессию. Уходя, Михай снял перчатку, пожал мне руку. «Спасибо», — сказал он по-русски. А примерно через полгода в Ялте встречный румынский офицер спросил меня: «Вы актер?» — «Нет». — «Я видел в Румынии фильм с вашим участием. Вы возле короля Михая во дворце». — «Я работаю там». Один немецкий офицер, посетитель дворца, сказал мне, что он знаком с князем Оболенским, от которого узнал о двух сыновьях Воронцовой-Дашковой, последней владелицы: один — музейный работник, второй работает у немцев — в управлении подводных лодок. Но была и теплая, трогательная встреча: на улице ко мне подошли два пожилых немецких солдата и сказали, что они были во дворце, слышали мой рассказ об экспонатах музея и принесли мне «гонорар». Он лежит в шкафчике возле уборной: «Мы интенданты, мы коммунисты». Я тепло поблагодарил их, пожал им руки и пожелал остаться целыми и невредимыми и вернуться к своим родным. В шкафчике я нашел пару банок консервов и мешочек с крупой. Очень нужный подарок! А вот адмирал германского флота после посещения Дворца-музея удосужился прислать сверток сигарет и сигар, которые я курил, чтобы не так сильно ощущать голод. В эти одинокие для меня годы (моим помощникам — юношам я не мог поведать свои мысли, свои тревоги) в напряженной без отдыха работе, когда я постоянно чувствовал себя настороже, начеку, как бы «не промахнуться», как бы «не засекли» меня на обмане, мне довелось по душам разговаривать только с Марией Павловной Чеховой. Я познакомился с ней, бывая до войны в Доме-музее А.П. Чехова в Ялте. И конечно, когда в 1941 году Дворец-музей заработал полным ходом (комендант распорядился повесить вывеску на немецком языке: «Дворец графа М.С. Воронцова»), я стал чаще посещать Марию Павловну, делился с ней своими планами, переживаниями, опасениями. Ей было около восьмидесяти лет, но она выглядела свежей, румяной старушкой лет шестидесяти. Она принимала меня наверху, и мы беседовали за кофе (я приносил ей фрукты, виноград). Со слов сотрудницы Дома-музея Чехова я знал, что Мария Павловна в самом начале войны пожертвовала все свои сбережения в помощь нашей армии. Скульптуры Зимнего сада. Довоенная экспозиция Мария Павловна рассказывала о своей работе по подготовке к изданию трудов Антона Павловича, которой она занималась даже во время оккупации. Говорили мы с Марией Павловной о Михаиле Александровиче, племяннике Антона Павловича и Марии Павловны, знаменитом актере, которого мне посчастливилось видеть в театре во всех его ролях. Я делился своими впечатлениями. Игра этого великого артиста и режиссера была потрясающей! «Мишенька с детства был склонен к мистическому миросозерцанию, — говорила мне Мария Павловна. — Это и отразилось впоследствии на его творчестве». Во время оккупации, несмотря на протесты Марии Павловны, в доме ее поселился немецкий майор. Она объяснила ему, что дом этот принадлежал писателю Антону Павловичу Чехову и что она его наследница. Майор вел себя тихо и прожил недолго. Уезжая, он приказал адъютанту сделать на входной двери какую-то надпись, которая останавливала потом всех желающих поселиться в этом доме.
Но однажды явился комендант Ялты и потребовал от Марии Павловны документы, подтверждающие, что дом является частным владением. Мария Павловна документы предъявила, и больше ее не беспокоили. Пришлось мне быть на похоронах ее помощника Пронина, нести в процессии большой деревянный крест впереди гроба. Мария Павловна говорила (зная мою любовь к творчеству Антона Павловича), что после войны она пригласит меня работать к себе. Как трогательно, радостно мне было, когда она отвечала на мои письма в глухие таежные лагеря... О событиях на фронтах Великой Отечественной войны я изредка узнавал по газетам и из разговоров с немцами. Попадался профашистский «Голос Крыма» из Симферополя, изредка читал «Новое слово» — также профашистскую газету, иногда ее расклеивали на улицах. Эта газета распространялась во всех частях света издательством из Берлина. Издателя и редактора этой газеты Владимира Деспотули я увидел в таежном лагере в Коми АССР. «Вам дали всего десять лет за такую газету?» — «А вы хотели, чтобы мне дали сто лет?». По отбытии этого срока ему разрешили вернуться в Германию, где у него были жена и теща, обе — немки. Изредка попадалась фашистская газета «Дас Райх». Из постоянно публикуемых в ней «победоносных» статей Геббельса я узнавал о победах Советской армии, неуклонно теснившей врага на Запад. И мы ждали нашего освобождения. 1944 год. Советская армия с тяжелыми боями наступала на запад. Одесса освобождена! И сразу началось движение вражеских войск на Севастополь. В начале апреля я поехал в Симферополь разузнать: если штаб Розенберга в бегстве оставит картины, то следует принять какие-то меры к их сохранности, может быть, к возврату в Алупку. Удалось поехать из Ялты на автобусе вместе с немецкими солдатами, зачем-то ехали в Симферополь. Когда мы проезжали мимо леса или кустарников немцы наклонялись ниже окон, боясь партизан. Штаб уже удрал. В хранилищах ни одной картины. Зашел к алупкинским знакомым, переселившимся недавно в Симферополь. Их нет. Записка мне: «Мы ждали Вас, думали, Вы захотите с нами ехать. Прощайте». Они уговаривали меня бежать в Германию. Я категорически отказался. Я и подумать не мог о том, чтобы покинуть Родину. Поскольку мимо дворца двигалась уже беспрерывно армия врагов, мы закрыли двери и ставни окон, сняли вывеску и находились внутри дворца. Александр I. Дж. Доу В горуправлении меня предупредили: по слухам, дворец и электростанция при отступлении будут взорваны фашистами, и мы должны покинуть дворец. Меня вызвали в комендатуру. Дежурный вручил мне письмо из штаба Розенберга, в котором сообщалось: «Объявите профессору Щеколдину: если он сам хочет, он может ехать в Германию. Предоставьте ему машину и отправьте его с необходимыми ему вещами в Симферополь, откуда он будет направлен в Берлин». Я сказал дежурному, что я никуда не поеду. «Большевики вас расстреляют». — «Меня не за что расстреливать. Я ничего плохого не сделал». — «Посадят в тюрьму на десять лет». — «Надеюсь, что и этого они не сделают». — «Если комендатура сменится, предъявите это письмо, и вам дадут машину» (это письмо было подшито в моем следственном деле). Однажды проезжавшая мимо дворца машина с румынскими солдатами остановилась, солдаты начали стучать, требовали открыть дверь. Я крикнул, что открывать запрещено германским командованием. Они кричали, пытались просунуть штык, поднять засов. Я и Амди повисли на засове, не дали его поднять... Покричали, уехали. Вечером 13 апреля 1944 года прошел хвост уходящей на Севастополь немецко-румынской армии. Все стихло, а мы втроем затаились во дворце. Оправдаются ли слухи об уничтожении дворца? Или это болтовня? Мы решили оставаться в музее всю ночь. Ночью со стороны Мисхора на площадь въехала грузовая машина с солдатами. Немцы! Сквозь щели ставен мы, прильнув к ним, видели все. Солдаты, спрыгнув с машины, что-то говорили, ходили по площади и спешно выгружали снаряды, укладывая их вдоль фасада дворца. Что это? Не нужны они им, что ли? Или хотят взорвать? Но, оставив эти снаряды, они вскочили на машину и уехали в сторону Симеиза. А что дальше? А если еще приедет кто-либо? Мы вышли на площадь, перетаскали снаряды (их было около десятка) в парк напротив площади и уложили их в окопы, которые были вырыты в 1941 году вдоль всей дороги для обороны. Предполагалось «ни одной пяди земли не отдавать никому» (по словам Сталина) и с боями отходить на Севастополь в случае неудачи. Мы торопились и, сделав дело, скрылись во дворце. Томительно ждали. И к ужасу нашему приехал опять с востока грузовик с солдатами. Спрыгнули с машины, побегали, вдоль дворца минут пять, что-то крича, вскочили в машину и уехали на Симеиз. Это была последняя машина оккупантов в Алупке. Измученные пережитым, усталые от волнений, мы пробродили по залам до утра. Помощники мои пошли по домам. Николай I. В.А. Голике Я зашел в комендатуру — никого нет. В горуправлении — пусто. Возле дома — несколько человек. Вдали показались полицейские с оружием в руках. Они скрывались в лесу, не убежали с немцами. Я предложил кому-то отобрать у них оружие, они сами сдали автоматы. Нами было вывешено объявление: созывали народ на собрание. Горожане охотно собрались на площади. Я объявил, что власть оккупантов окончилась, обратился с просьбой ко всем не повторять того, что произошло с 4-го на 5 ноября 1941 года. Не допускать пожаров, погромов, присмотреть за детьми. Сохранять порядок на улицах. Достойно встретить наших освободителей. Два дня, 14 и 15 апреля, в городе не было никакой власти. Стояла тишина, а на душе было тревожно... В эти дни мы все приходили на работу, женщины натирали полы во всех залах. Но двери пока не открывали. В эти дни пришла к нам Мария Николаевна Лутовинова, жена умершего в годы оккупации внука И.С. Тургенева. Она вернула мне несколько листов гравюр, которые я давал из фонда музея для иллюстрации ее уроков истории в старших классах. Она преподавала русский и немецкий языки. Немцы приглашали ее работать переводчицей в гестапо. Она отказалась. Тогда они пригласили так, что это было уже угрозой. «Степан Григорьевич! Что же с нами будет, когда придут наши? Если бы они узнали, сколько я выручила арестованных гестапо!». Что я мог ответить этой честной, интеллигентной, скромной женщине, русской патриотке на ее смятение? Что нас ждет? Ведь мы все давно слышали, что на освобожденных от оккупантов местах идут массовые аресты и дают от 10 до 25 лет. И ей, М.Н. Лутовиновой, дали 25 лет! 16 апреля в городе появился первый представитель Советской власти — милиционер, все тот же, бывший у нас до войны. К нему вопросы: «Колхозы есть?», «Говорят, и церкви разрешают?». А утром в воскресенье, 16 апреля, прибежала наша кассир Чернышева: «Наши промчались по верхнему шоссе на Севастополь!». И мы открыли все ставни, двери на площадь и ждали радостной встречи с нашими солдатами, офицерами: Дворец-музей был готов к приему наших, русских, экскурсантов! И пошли войска по нижней дороге. И пошли экскурсии: группами — солдаты, и в одиночку — офицеры, генералы. Первому пришедшему в музей — майору Советской армии показали снаряды, лежащие в окопах. «От дворца остались бы одни руины», — сказал он. Командующий войсками 4-го Украинского фронта армии Толбухин добавил к тексту моей экскурсии, к характеристике графа М.С. Воронцова: «Он создал Устав русской армии, вошедший в основу Устава Советской армии, он был героем Отечественной войны 1812 года». Я вкратце рассказал тов. Толбухину о нашей работе во время оккупации, ответил на его вопросы, и генерал, крепко пожав мне руку, поблагодарил всех нас за мужество, за сохранение Дворца-музея, за патриотизм. Мы были приятно тронуты его вниманием. Афизе Асановна Усеинова, мать Амди Сердечно тронут я был, когда две девушки в солдатской форме взяли меня под руки и, прослушав мою экскурсию, повели обедать. Их часть стояла в Шуваловском корпусе. Мне кажется, никогда я не ел таких вкусных щей с мясом и каши. Я еле сдерживал слезы, благодаря их за угощение, за ласковое, простое, человеческое отношение... Корреспонденты газет записывали наспех мои рассказы о работе в оккупации. И однажды мне пришлось уже в сумерках открыть двери музея для подошедшей группы в матросских шинелях. Среди них — писатель Леонид Соболев. Осмотрев музей, Л. Соболев вкратце записал кое-что из моего рассказа, в частности, эпизод с картиной «Политик» В. Хогарта, записал, как я обманывал экспертов-искусствоведов из Берлина, как была похищена «Психея». Смятение обуревало меня в эти апрельские дни! Свобода от фашистского плена! Освобождение от постоянного опасения, возможного открытия нашей тайны — «железной» комнаты. Ощущение, что мы уже дома. Сознание кошмара в прошлом: попытки взрыва, поджога, опять взрыва. Облегчение какое-то и... беспокойство о будущем, предчувствие чего-то еще более ужасного, чего-то неосознаваемого... И вдруг словно ударило что-то по сердцу. «Я доложу о вас товарищу Берия, — сказал мне одетый во все кожаное очередной экскурсант, осмотрев экспозицию музея. — Я его адъютант». Я не знал, что ему ответить на это. Как он доложит? Что он доложит? К худу или к добру? Какого добра ждать от палача «всея Руси»! Тревога камнем легла на сердце... По стенам и заборам вывешены, наклеены печатные призывы к населению: «Граждане! Сообщайте об изменниках и предателях Родины!». Мобилизация: моих мальчиков взяли в армию. Дошла очередь до меня: «Кем работаете?» — «Директором Дворца». «Остаетесь: броня». И тут же (видимо, ожидал) — Кинеловский ко мне: «Ну, что?» — «Броня». Из Симферополя прибыла женщина по фамилии Гринберг с приказом Крымского управления культуры о назначении ее директором Дворца-музея и объявлении всему штату сотрудников благодарности за спасение дворца и сохранение музейных ценностей. На мой вопрос: «Разрешите мне работать в музее?» — последовал ответ: «Работайте, но не знаю, как выяснится ваше положение...». К 1 Мая мы украсили фасад дворца и ворота дворцовой площади портретами руководителей партии и правительства, плакатами из фонда «железной» комнаты. Узнали об этом вернувшиеся члены горисполкома, пришли в музей, и из Ялты приехали, и я снабдил всех портретами и плакатами. Бекир Чолах явился. Язвительным тоном здороваясь с ним, я сказал: «Извините, товарищ Чолах, я не выполнил ваше распоряжение, не поджег дворец». — «Ладно, ладно! Кто старое помянет...» — «Нет, нет, не забуду я ни фашистов, ни вас». — «А львы-то целы! Я в Москве читал, львов фашисты увезли». — «Хотели, да не удалось...». Румынский король Михай По поручению директора Гринберг я написал вкратце, что произошло во время оккупации с дворцом и со мною, и послал этот отчет в Симферополь, в Управление культуры Крыма... 4 мая 1944 года. Ко мне домой утром пришел старший лейтенант — начальник пожарной команды — и заявил, что он занимает одну из моих комнат. После работы, придя домой, я увидел следы «устройства себе уюта» старшим лейтенантом. Все сотни музейных книг были сброшены с полок на пол, они лежали кучей посреди комнаты. Вошел, словно прогуливаясь, милиционер. «Сколько книг-то из музея наворовал!». Сел за письменный стол, стал рыться в нем, вынул пачку чистых тетрадей: «Откуда ты взял?». И, походив по комнате, захватил с собой тетради, ушел. Так наплывала на меня черная туча... Я пошел в горисполком условиться с моим сожителем-пожарником о ключе от квартиры и о сроке, в который я смогу перенести назад книги в «рабочую библиотеку» музея. На втором этаже горисполкома какой-то милиционер попросил зайти в комнату на первом этаже. «Оставьте портфель. Обыскать и в камеру!». Какая-то холодная волна прошла по всему телу, обволокла сердце и... на долгие годы поселилась в душе неизбывной тоской. Фашистов я обманывал, фашистам лгал... Фашисты мне верили... Нашим советским людям я говорил только правду... Наши не верили. Верили лжи, клевете... Началась новая жизнь... Тюрьма находилась во дворе горисполкома, две камеры — для мужчин и женщин — были полны. В большинстве — татары, полицейские. Прошли недели томительного ожидания, никто меня не вызывал. Наконец, первый следователь — молодой малограмотный человек, Назаров: «Кто такой товарищ Молотов?» Ответил. «Что говорил про Советскую власть?» — «Ничего не говорил». Этим допрос закончился. Опять долгое ожидание. Второй следователь — Ротенберг — интеллигентный человек (художник): «Куда делись эскизы декорации Гонзаго?». Значит, прочитал книгу «Алупка. Дворец и парки» бывшего директора Дворца-музея С.Д. Ширяева, экземпляров десять их еще осталось в «рабочей библиотеке». Эскизы Гонзаго были вывезены из Дворца-музея еще в 1920-х годах. И этот следователь меня больше не вызывал, только, зайдя в камеру, сказал мне: «Ваше дело ясное. Все будет благополучно». Еще недели ожидания. Ротенберг — директор Дворца-музея. Гринберг уволена и привлечена к уголовной ответственности: присвоила себе какое-то имущество расстрелянных фашистами евреев. Следующий следователь — Розенвассер. И длилось это следствие семь месяцев. Однажды из репродуктора, висевшего на втором этаже горисполкома, услышали: «Указом Президиума Верховного Совета СССР Щеколдину Степану Григорьевичу объявить благодарность за спасение уникального Алупкинского дворца и его музейных ценностей». Розенвассеру дал прочитать статью Леонида Соболева в «Правде» от 4 июня 1944 года «Дорогами побед», где описывается мой разговор с ним в 20-х числах апреля. «Вот видите: обо мне пишут правду, а вы записываете черт знает какую клевету!». М.П. Чехова Под листом допроса я увидел краешек чьего-то письма, узнал почерк — Кинеловский. Он однажды секретарствовал на собрании в музее, когда я был председателем месткома. Кинеловский, оказывается, написал, что на похоронах А.Г. Коренева я сказал какую-то антисоветскую речь, и это подтвердил некий Данилов. Ни Кинеловский, ни Данилов, которого я вообще не знал, на похоронах не были. Я потребовал очной ставки с ними. С Кинеловским не дали. Данилова я спросил: зачем он лжет? Ведь он же не был на могиле и ничего не мог слышать. Он смутился и сказал, что я не говорил антисоветскую речь. Розенвассер закричал на него, что он ответит в уголовном порядке за клевету, так как письменно подтвердил донос Кинеловского: «Говорил антисоветскую речь или не говорил?». Данилов растерянно бормотал: «Да, говорил». Очень простая процедура. Этого было достаточно для осуждения на десять лет... Вскоре в тюрьме оказался и архитектор Базилевич: «Я сказал, что в вашей речи на могиле А.Г. Коренева ни одного антисоветского слова не было». Однажды вызвали меня на свидание: приехал Ян Петрович Бирзгал, бывший много лет директором Дворца-музея, до 1937 года, когда он был арестован. Просидев 22 месяца под следствием в тюрьме, он был освобожден, не осужден. Я обрадовался встрече с ним, рассказал вкратце мою историю с музеем, Он приехал Алупку составлять акт об ущербе, нанесенном оккупантами, о потерях Дворца-музея. Успокаивал меня: «Разберутся». «Разобрались». Приехал прокурор: «А кто вам поручал спасать музей? Вот если бы вы, вместо того чтобы возиться с музеем, убили хоть одного паршивого немца. Вас бы расстреляли, но вы погибли бы смертью храбрых! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Вы не изменник, не предатель Родины, и много вам не дадут — не больше десяти лет». — «Товарищ прокурор, за одного убитого немца фашисты расстреливали десять советских граждан, а за одного офицера — двадцать человек. Значит, для вас десять советских человек дешевле одного паршивого немца? Если мне придется рассказать все, что вы говорите, мне не поверят, скажут, что это антисоветский анекдот». Розенвассер повел меня во Дворец-музей, чтобы я показал ему свое рабочее место. У меня их было два. В столе в комнате возле Голубой гостиной он ничего не нашел. Второй стол в «рабочей библиотеке» был заперт все эти годы, и я не пытался его отпирать. Следователь не поверил, что от него у меня нет ключа, вызвал слесаря; тот с трудом вскрыл ящик, он был пуст. Следователь зачем-то стучал по стенам, искал какие-нибудь следы моих преступлений... При этой процедуре присутствовал, самодовольно развалившись на кушетке (из Ливадийского дворца Н. Романова), Кинеловский. Он, оказывается, работал в музее: исполнилась его заветная мечта быть в штате сотрудников Дворца-музея. Я был в музее для него камнем преткновения. Не сказав никому ни слова, я глядел с грустью, прощаясь, на стены моего любимого Дворца-музея, где пережил самые счастливые и самые тяжелые годы моей жизни. Парадный вход в главный корпус дворца. Северный фасад В гестапо я соврал, что Кинеловский русский, и он остался жить. Во время оккупации он не голодал. Открыл комиссионный магазин, и голодающие люди несли ему все, что имели, на продажу. У него завелось даже золото: он попросил меня взять несколько золотых десятирублевых царских монет, чтобы я, бывая в Симферополе, продал их. Мне? Продавать золотые монеты? Что-то эта сделка напомнила мне Иуду Искариота, продавшего за тридцать сребреников Иисуса Христа. Я, оскорбленный таким поручением, отказался. После вызова меня в гестапо он срочно крестил в церкви своих детей (10 и 12 лет). Жил он сытно. Проходя по общему с ним коридору, я видел на его столе грязные тарелки с остатками топленого сливочного масла... В 50-х годах я узнал, что вскоре после освобождения от оккупации (вновь начался голодный период) этот человек скончался. А жена его уехала из Крыма со своими крещеными детьми. В октябре меня перевезли в Ялтинскую тюрьму. Комендант ее не хотел меня принимать: до сих пор, с 4-го мая, мне не предъявили никакого обвинения. Я сидел по статье 100, «задержан по подозрению», а по этой статье нельзя держать в тюрьме более 1—3 суток. Кто-то приносил в Ялтинскую тюрьму поесть... Узнал лет через двенадцать: это была милая Лидия Дмитриевна Коцюбинская. Кто ей сказал, что я в тюрьме? Дивичинский, сидевший со мной в тюрьме и освобожденный, принес из Алупки и передал мне записку: «О вас спрашивал Берия». Меня вызвали к уполномоченному НКВД: «Вами заинтересовался нарком товарищ Берия. В отдельной комнате вам дадут бумагу, напишите, что вы делали во время оккупации?». И я с неделю сидел и писал. Куда, кому пошло это мое повествование? Что хотел со мной сделать Берия? С.Г. Щеколдин после освобождения из лагеря. 1954 г. В ноябре 1944 года меня перевели в тюрьму города Симферополя. Из окна подвальной камеры я увидел Григория Дмитриевича Костылева. Я крикнул ему. Он отозвался. Больше я его не видел. Он умер в лагере. Потом меня перевели в камеру, рассчитанную на двадцать человек, которую набивали ежедневно. Постепенно число ее обитателей дошло до сотни человек, а новые заключенные все продолжали поступать... Их втискивали с трудом в камеру и закрывали дверь. Не только лечь, но и сесть было нельзя. Можно было только стоять. Ночью обессиленные люди валились один на другого. Моя голова оказалась около параши, и брызги мочи летели мне в лицо. Кое-как прикрывался ладонями. Но по голове моей уже никто не ходил. И в декабре 1944 года в Симферополе сотни арестованных по очереди ждали вызова в комнату, где заседала «тройка» военных. Через каждые 10—15 минут получали свои «сроки». Я получил десять лет. И началась новая эпопея моей жизни... Три года я работал в тайге на лесоповале, и за каждый один год мне снижали срок на один месяц. Проработал в разных лагерях девять лет и девять месяцев. Коротко об этом страшном времени. Самыми легкими работами в начале моего пребывания в лагере были очистка железной дороги от снега и еще разбивка и погрузка выброшенного содержимого уборных. Куда тяжелее была работа по пробивке льда на матушке Волге. В 20—30-градусный мороз нужно было пробивать полосу от одного берега до другого, шириной полтора метра для прокладки по дну реки нефтепровода. С.Г. Щеколдин. 1968 г. Вдали виднелся в тумане город Куйбышев (Самара). Ледяная вода заливала ноги в ботинках с портянками. Пешня (вид лома) выскальзывала из рук и уходила на дно. С меня удержали за три утонувших пешни. В лагерь (за 25 километров) возвращались грузовыми машинами. На онемевших ногах невозможно было стоять. Выпрыгнув из машины, я падал и ползком добирался до барака. Обессилев, я обратился в санчасть. Меня освободили от этой работы и некоторое время выдавали УДП — усиленное дополнительное питание в виде столовой ложки рубленой моркови или гороха. Заключенные называли УДП «Умрешь днем позже». В это время меня направили начислять зарплату заключенным, работавшим в механических мастерских. Там над столом я повесил букет разноцветной металлической стружки, напоминавший мне красоту Воронцовского дворца в Алупке. А потом был лесоповал. Голодный и обессиленный, я еле двигался, возвращаясь в лагерь. Меня торопили, и я нервничал, отставая от бригады. Конвоир ловко удерживал собак, готовых разорвать меня. Я сказал ему: «Можешь стрелять, я не могу идти быстрее!». А бригада, голодная и промерзшая, ждала меня. В лагере, как и на воле, были стукачи. По ложному доносу меня заключили в тюрьму, расположенную в километре от лагеря. Это была подземная тюрьма. Окно было в потолке. Оно чуть возвышалось над землей. Камера с двухэтажными нарами была полна клопов, которые не давали спать, и я всю ночь ходил — три шага вперед, три шага назад... Утром выдавали хлеб. Ударом сапога по голове или по руке уголовники отнимали у меня пайку. За три месяца, что продержали меня в подземной тюрьме с уголовниками, я совсем ослабел... Приходил ко мне следователь и составлял протокол о якобы антисоветских разговорах. И один раз нас водили в лагерь в баню. По пути с проезжавшей мимо машины с продуктами сопровождавшие ее заключенные бросали нам белые сухари, которые предназначались для военизированной охраны. Я был без очков, и вместо сухарей на земле мне попадались щепки... С.Г. Щеколдин и Амди Усеинов. 1972 г. После трехмесячного следствия меня повели в лагерь на заседание «тройки». Там предложили мне подписать заключение по моему делу. Я знал, что это грозит продлением срока еще на два года, и отказался подписывать, заявив, что лучше покончу с собой. «Да вы прочтите!» — сказали мне. Меня освобождали от дополнительного срока за отсутствием улик. Так, к удивлению моему и моих товарищей, я не получил дополнительного срока. А стукач исчез, его перевели в другой лагерь. Через два с половиной года меня отправили из Поволжья в северный ВЯТЛАГ особого режима, занимавший сотни квадратных километров и углублявшийся в тайгу. Там однажды я увидел у чужого барака единственную в лагере скромную клумбу бледных васильков. Я сорвал пять цветочков и... полетел ничком от удара сапогом в спину. Я извинился перед мужиком, ругавшимся матом, и объяснил ему, что в этот день, несколько лет тому назад, была моя свадьба... И он замолчал. Сначала в ВЯТЛАГе меня послали работать счетоводом конного парка. Когда на ночлег пришел в барак конюхов, то увидел черные от грязи и тонкие, как блины, матрацы на нарах. Конюхи ночевали не раздеваясь. Больше одной ночи я перенести там не смог. Спать я стал в бухгалтерии, на письменном столе, с папками документов вместо подушки, подставляя стул под свешивающиеся со стола ноги. Ложился я поздно вечером, когда все затихало, а вставал рано, до прихода других работников. Голод и недостаток сна давали себя знать, поэтому иногда я падал на пол... По доносу главбуха я был вызван к начальнику лагеря. «Ты что, к теще на блины приехал?» — закричал он на меня. «Я благодарен вам, гражданин начальник, за нетяжелую работу, — сказал я. — Но я падаю от голода». С.Г. Щеколдин (1904—2002) И он перевел меня на работу в овощехранилище, за зону. Там я мог вволю есть морковь и сахарную свеклу и немного окреп. А потом я попал на лесоразработки и лесоповал. В гуще тайги я получил участок совершенно непроходимого бурелома шириной в два метра. Пилой и топором я прорубал просеку для лежневой дороги из брусьев, по которой вывозился тачками срубленный лес. Пробиваться через этот бурелом было настолько тяжело, что я впал в отчаяние. Однажды внизу, под обрывом, я увидел товарный поезд. Захотелось броситься вниз на рельсы и разом избавиться от такой жизни. Но мысль о маме и о жене остановила меня. Как и других, меня переводили на разные работы. Периодически я работал и в бухгалтерии. Наконец, через шесть лет, меня назначили заведовать вещевым складом. Я стал ездить в командировки, получал и грузил на локомотив тяжелые тюки с одеждой, обувью, постельными принадлежностями. Потом выдавал их заключенным. Эта работа давала некоторое чувство свободы. А в феврале 1954 года моя лагерная жизнь закончилась. Начальник лагеря сказал мне: «Оставайтесь у нас работать главным бухгалтером! Выписывайте семью. Дадим вам домик и огород». Я ответил ему: «Чтобы моя семья слушала ежедневно матерщину проходящих мимо домика заключенных и лай собак? Лучше буду работать дворником на воле, чем останусь здесь!». Не предвидел я того, что ждало меня на воле. В Ставрополе, куда в водовороте войны попали моя жена и мать, меня никуда на работу не брали. За помощью я обратился в райком партии. Последняя прижизненная фотография С.Г. Щеколдина. 2000 г. — «Я лучше жил в ВЯТЛАГе!» — в сердцах сказал я. Тогда мне посоветовали пойти на стройку чернорабочим. А мне уже было 50 лет! Так я вынужден был устроиться обрубщиком в литейный цех. С восьмидесятикилограммовых деталей я обрубал молотком металлические наплывы, образовывающиеся при литье. Работа очень тяжелая даже для физически крепкого человека. Для меня она была непосильной. И было страшно обидно: «За что?!». По лицу моему, покрытому сажей и металлической пылью, стекали черный пот и черные слезы. Обрубал я и ржавчину с котлов. А потом в ОКСе завода уволили пьяницу бухгалтера, и меня взяли на его место. Через два года я получил квартиру. Прожил я в Ставрополе 22 года. После смерти мамы мы с женой решили уехать из этого гористого города, в котором не раз получали травмы во время гололеда. Переехать в Крым не удалось. С 1976 года мы стали жить в Таганроге, где у нас были тогда родственники. Здесь в возрасте 72 лет я начал работать в театре имени А.П. Чехова, в бюро организации зрителя. И проработал там девять лет. Реабилитирован был только в 1991 году. Такова вкратце история Воронцовского дворца-музея в военные и предвоенные годы, мое участие в ней и история моей жизни, Старость моя в последние годы омрачена потерей зрения. В работе над дополнениями к этим воспоминаниям помогала мне моя жена Галина Александровна Скрылова. * * * Июнь 1997 года, Таганрог Судьба подарила мне радость общения с удивительным человеком, Степаном Григорьевичем Щеколдиным. Смыслом жизни этого человека, настоящего русского интеллигента, было служение Отечеству. Степан Григорьевич рассказал мне о своей жизни и о жизни многих соотечественников, оказавшихся во время Великой Отечественной войны в оккупации. Величайшее мужество этого не могучего, а истощенного голодом военных лет человека позволило сохранить сокровище мировой культуры — Воронцовский Дворец-музей в Алупке. Только библиотека Воронцовского музея располагала уникальным собранием из тридцати тысяч томов! А картины, гравюры, скульптуры... И наконец, сам дворец, один из великолепнейших дворцов мира! Все это должно было погибнуть в пожаре войны! Уничтожить дворец пытались сначала свои («Ценностей врагу не оставлять!»), а потом — немцы. Сейчас это кажется чудом, что Степану Григорьевичу со своими помощниками, юношами Амди Усеиновым и Николаем Минаковым, удалось предотвратить и взрыв дворца-музея, и вывоз ценностей в фашистскую Германию. Когда наши войска вошли в Алупку, командующий фронтом маршал Толбухин публично благодарил Степана Григорьевича Щеколдина за спасение уникального дворца-музея и его экспонатов. Чуть позже Президиум Верховного Совета СССР объявил благодарность Степану Григорьевичу. Сообщение об этом прозвучало на всю страну по радио. Щеколдин услышал это сообщение, находясь в тюрьме, поскольку громкоговоритель вещал у окна его камеры. Десять лет сталинских лагерей в дополнение к благодарности оказались еще трагичнее, чем оккупация, где жизнь ежедневно висела на волоске. О ГУЛАГе Степан Григорьевич написал совсем мало. Я попросила дополнить, но это оказалось слишком тяжело! Есть предел человеческим возможностям. Подсознание бережет нас. Только в 1991 году (в возрасте 87 лет!) по личному ходатайству академика Дмитрия Сергеевича Лихачева Степан Григорьевич Щеколдин был реабилитирован. Наконец Отечество удостоило гражданскими правами своего героя! В 1997 году позвонил в Таганрог и благодарил Степана Григорьевича за спасение Воронцовского дворца Александр Илларионович Воронцов-Дашков, профессор, проживающий ныне в США, потомок последней владелицы дворца. Благородство Степана Григорьевича никого не оставляет равнодушным, и я посвятила ему стихи:
Умер Степан Григорьевич Щеколдин 98 лет от роду 8 мая 2002 года. Ксения Исхакова * * * Василий Миронович НовиковРодился 1 марта 1880 г. в станице Мигулинской Донской области в семье донского казака. После окончания в 1908 г. Киевского университета получил квалификацию преподавателя литературы и психологии. С 1910 г. начал заниматься живописью. В 1914 г. с целью художественного самообразования совершает поездку по Италии. С 1915 г. жил в Москве, работал в Наркомпросе, в Центральном гуманитарно-педагогическом институте, в Центральной психофизиологической лаборатории, в Авиационном научно-исследовательском институте РККА. Автор научных трудов по психологии. В 1936 г., получив академическую пенсию, оставляет службу по состоянию здоровья и переезжает в Алупку. Преподавал рисование в татарской школе, В 1944—1945 гг. работал научным сотрудником Алупкинского дворца-музея. В художественных выставках участвует с 1912 г. С переездом в Москву с 1915 по 1923 г. принимает участие в московских художественных выставках. Вступает в объединение «Современная живопись». В 1917 г. совершенствуется в частной школе художника Харламова «Апеллес» и у Константина Коровина. В течение трех лет был экскурсоводом Музея западного искусства. С 1937 г. — член производственного объединения «Всекохудожник», затем — «Крымхудожник». Весной 1941 г. состоялись персональные выставки в Симферополе и Феодосии. Осенью 1944 г. — персональная выставка в Алупкинском дворце-музее, посвященная 30-летию творческой деятельности. 30 июня 1945 г. принят в члены Союза художников СССР. С 1945 г. ежегодно участвует в Крымских областных выставках. В 1956 г. его работа «Цветет миндаль» (х.м., 79×95) экспонировалась на выставке крымских художников, проходившей в Киеве. Умер 11 декабря 1967 г. в Алупке. Примечания1. Рукопись сохранилась, находится в научном архиве Музея-заповедника. — Прим. сост. 2. Умер в 2002 году. — Прим. сост. 3. Этот факт пока не нашел исторического подтверждения. — Прим. ред. 4. Подлинник письма хранится в Таганрогском государственном литературном историко-архитектурном музее-заповеднике. — Прим. сост.
|
Столица: Симферополь
Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта
Территория: 26,2 тыс. км2
Население: 1 977 000 (2005)
Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта
Территория: 26,2 тыс. км2
Население: 1 977 000 (2005)