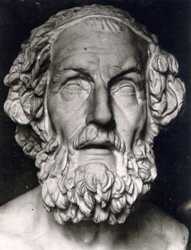|
Путеводитель по Крыму
Группа ВКонтакте:
Интересные факты о Крыме:
Согласно различным источникам, первое найденное упоминание о Крыме — либо в «Одиссее» Гомера, либо в записях Геродота. В «Одиссее» Крым описан мрачно: «Там киммериян печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет оку людей лица лучезарного Гелиос». На правах рекламы: • В каталоге www.sport-trenazher.ru/profi-trenagery профессиональные силовые тренажеры РФ. |
Главная страница » Библиотека » Ю.Д. Черниченко. «Мускат белый Красного Камня: Крымские очерки. Воспоминания. Заметки»
Небесная глинаПолучили телеграмму от Алика: «Кефаль пошла, высылайте младшего деверя». Алешка запрыгал: восьмилетка уже за холмом, да здравствует кефаль и творческий труд! Через день я отвез его в Домодедово. Алик — дальняя родня, всех нас, чтоб не путаться, зовет деверями, деверем считаем его и мы. Он всё умеет, до его приезда откладывается и починка проигрывателя, и склейка разбитого моржового клыка, и выбор лыж. Работает он инженером рыбзавода, но обязанности его, как можно понять, в основном сводятся к добыванию всякой металлической всячины для сейнеров, холодильных камер и коптилен. В день его приезда на кухне возникает гора банок с килькой, бычками и керченской сельдью, венчает ее канистра сухого вина. По мере того, как выбиваются наряды на компрессоры и втулки-вкладыши, гора тает, и приходит, наконец, вечер, когда Алик открывает последнюю банку килек пряного посола, достает заветный «галаган» — вяленую икру кефали, сливает в графин остатки рислинга, и мы можем не торопясь поспорить, в какой последовательности надо класть молодую фасоль, синенькие и болгарский перец в крымский «совус» и когда — в апреле или в мае — выползают на гальку у мыса Меганом икряные крабы-краснобаи. — Алик, ты взяткодатель. Учти, передач тебе не будет. — А ты давай реально. Ладно, потеряет завод ту паршивую банку. Зато сто тонн селедки сейнера не вывалят в море. Что я — себе тот компрессор беру? Да он мне сто лет не нужен. К рукам у меня не липнет, это начальство знает. А дефицитка — она е-есть, достают мне ее не с границы с Турцией или Пакистаном, просто на базах. Но за красивые глаза не выпишут... Вот сделай, чтоб можно было ехать пустым, тогда и грозись. Он поддерживает миф о каких-то своих знакомствах и связях. А секрет, видно, просто в таланте обаяния. Когда его широкая улыбчивая физиономия появляется в кабинетах сбытовой конторы, когда жалостливым южным многословьем он принимается выпрашивать, простодушно обещая взамен летом квартиру у моря и уху. Распределяющие, как правило, обнаруживают в себе тоску именно по комнате окном на пролив, по ушице из ставриды с помидорами в обществе такого ясного телепня с периферии. Осечек Алик почти не знает. Крест толкача деверь несет терпеливо, но жива в нем, инженере по диплому, пламенная страсть к «рацухе» — рационализации. В перерывах между поездками успевает сконструировать что-то для укладки бычков в жестянки, для починки бочек, что-то переменит в котлах, насосах, и всё служит исправно, будто таким поступило. В нём, видно, сидит дельный изобретатель. В соавторы к себе он щедро приглашает нужных людей и тем дробит премии, однако же именно «рацухам» обязан тем комфортом (телевизор, холодильник, мотоцикл!), каким откровенно гордится. И уж коль речь зашла о страстях, нельзя умолчать о любви деверя к той стороне Крыма, в которой вырос и проживает. Нашу, степную и предгорную часть — от Судака до Керчи — феодосийские художники и поэты именовали Киммерией (будто бы так ее назвал в «Одиссее» Гомер). Здесь нет кипарисно-лавровой экзотики Южного берега и приманок вроде Ласточкина гнезда, но прошлое наших краев богаче. Невесть как поселился в девере интерес к Пантикапею, эллинской Феодосии и русскому Сурожу, и теперь он с удивлением встречает всякое печатное доказательство громкой истории наших городков: будто кто-то ученый взялся подтвердить его, Алика, выдумки! Он читает всё, что может достать, но это не занятия историей. В маленьком городке каждый знает всех, чем-то выдающихся людей помнят прочно, Алик же в число примечательных включает и понтийского царя Митридата, и феодосийского жителя Айвазовского. Среди генуэзских консулов Феодосии и Судака у него свои приятели и враги, он не раз набирал компанию из своих заводских, добывал автобус и ездил показывать им Карадаг, Новый Свет, Судакскую крепость, желая рассказать про Христофоро ди Негро, который «был человек», и про «гадюку» Скварчиафико. По заводские набирали столько водки, так неохотно взбирались к Девичьей башне и так легко сходили к «Черемшине», что Алик, расстроенный, зарекался повторять турне. В последний приезд деверь поручил мне достать надувной матрац и узнать, откуда и чьи стихи «про Киммерию» (отрывок он вычитал в газете), Алешку же обещал устроить на лов кефали в рыбацкую бригаду. Вот тот отрывок: Там, где на землю брошена Через неделю от Алешки пришла открытка, потом письмо, другое. Алик определил его «на коравы» — в хуторок при капитальном ставном неводе. Степь, три домика, рыбаки уезжают ночевать в село, на коравах остаётся одна тётя Дина, она старая керченская рыбачка, готовит галаган. Из больших кефалей ей достают икру, она солит, сушит ее и потом опускает в растопленный воск. Кроме нее никто делать галаган не умеет, она предложила Алешке выучиться и через три сезона стать мастером. (Черт возьми, наверняка древнейший способ консервации, сейчас воск слишком дорог, но что поклонникам Высоцкого до эллинской технологии!). Под обрывом — бухта, ее замыкают скалы Скирда и Кременчуг, между ними квадрат невода, он держится на вышках, а те называются так, что язык сломаешь: «агиз», «чербухан», «башгундер»... (Ничего странного, названия турецкие, способ лова, верно, не изменился с пятнадцатого века). На вышках дежурят рыбаки, и как только дельфины загонят косяк в бухту, бригадир с башгундера кричит: «Чек!» Сторону квадрата поднимают, и на берегу все бросаются к байдам. Выбирать лобанов из невода трудно, они очень сильные, прыгают на метр из воды. Бывает, что только подгребут к берегу, как с вышки снова — «Режь!» А иногда целыми днями нет ничего, тогда рыбаки дуются в карты или спят, и можно купаться с Толей или травить про разное. Дальше в письмах пошло в основном про Толю. Ему скоро в армию, парень он отличный, у него свой мотоцикл, гоняет он на нем без номера, кефалий лов считает курортом, а вот зимой по хамсу ходят, тогда море дает прикурить. Содержались детальные сведения, как ныряет Толя (под водой проходит тридцать метров), какой он справедливый, как не терпит «коросту» — тех жадюг из стариков, что готовы весь улов разобрать по сумкам. Очередная влюбленность. Теперь — рыбак Толя. Про тетю Дину уже сообщалось мельком: она пограничник-общественник, ночью повесит на шею бинокль и ходит вдоль берега. (Керченские рыбачки знают о двух наших десантах — трагическом 1942 года и тоже тяжком победном — больше, чем где-нибудь можно прочесть. Они носили воду заточенным в катакомбах батальонам, спасали в своих халупах обмороженных, хоронили убитых и утонувших, их пацаны подрывались на своих и немецких минах. За тысячелетнюю историю эта земля не видала такого кровопролития, а море не приняло столько тел, как за четыре года Отечественной. Единственная свидетельница всего — рыбачка... Ах, нельзя все-таки отпускать их одних — не то видят, не о том спрашивают!) »...А может, и ты завернешь, если будет дорога? Лобан идет жирный. Кстати, что там с матрацем? Мне всю голову прогрызли. Сделал одну рацуху, классно вышло, потом расскажу...» Я был в командировке на Кубани. Обложные дожди прервали уборку. Комбайнеры зло лузгали семечки под навесами токов. Делать в полях было нечего, писать — не о чем. Решил переправиться на пароме через пролив, навестить своих. Есть на свете города... Норвежцы считают украшением земли Берген. Анекдот: учитель спрашивает первоклассников, откуда, кто родом, дети отвечают, а один мальчик упорно молчит. В перемену молчун тихонько говорит учителю: «Мне не хотелось, чтоб подумали, будто я хвастаюсь. Я из Бергена». Мальчик не видел Керчи. Желтый ракушечник стен в оспинах пуль и осколков. Из асфальта тротуаров поднимаются витые корни виноградника — листья пластаются выше вторых этажей. За оградой порта покачиваются мачты сейнеров. Ветки перистых акаций кропят прохожих мягкой водой, но дождя уже нет, и народу на бульварах полно. Вернувшиеся из Атлантики парни небрежно несут на плечах куртки, повергающие Алешку в мизантропию. Океанический лов дает себя знать: в столовых кормят балыком из рыбы-меча, ухой из рыбы-капитана, у пивных ларьков толкуют про загранпаспорта и прививки. Алешка приехал в город за хлебом и черешней, Алик исхлопотал для него у бригадира отгул. Деверь в отличном настроении: выплатили за «рацуху», теперь старый немецкий мотоцикл, за мучительство зовомый «фашистом», будет продан и заменен «Явой». Винные погребки замедляют наше движение, и все же в свой час мы достигаем раскопок Пантикапея на склоне горы Митридат. Фундаменты жилищ, таверен, узкие мостовые с водотоками, площадка храма с белыми обрубками колонн... Алешка не хочет верить, что в таких каменных клетухах жили целые семьи, Алик укоряет: заелся, брат, тогда и сам Митридат не имел того, что сегодня у каждого шкета. Например? Ну, транзистор... Стоп, а у деверя в детстве был транзистор? А нужда в нем была? Лично у Алешки нет, допустим, прибора для управления чужими чувствами — и ничего. — Есть хочешь? — догадывается деверь. Набрав полные руки черепков, показавшихся интереснее прочих, мы принесли их в чудесную общепитовскую точку на приморском склоне горы. Заведение именовалось, разумеется, «Митридатом». — Ребята, шашлыков нету, — соединяя поколения, сказала официантка. Она лукавила, славная женщина! Были, были шашлыки — из нежирной и немороженой свинины, что даже лучше баранины в пасмурный ветреный день. И красный балык из рыбы-меча, и маслины полные, без морщинки, и целенькие помидоры, и уксус, и свежайшие батоны, и сухое вино совхоза «Коктебель», и яблочный напиток для мальчика — всё это было и незамедлительно заняло стол, просто она не знала, что ее клиент работает вместе с Котей, ее двоюродным братом, завгаром, таким хорошим родичем и почти непьющим, а Сима с переправы через капитана милиции Коровина им обоим почти что родня. Внизу лежал пролив. Боспор Киммерийский для греков, «Кафская улица» лоцманов Генуи, протока «от Тмутараканя до Корчева» в 8054 сажени, меренная князем Глебом но льду холодной зимой тысяча шестьдесят восьмого года. За ним виднелись рыжие обрывы Тамани. До крыльев Икара человечеству создавали ощущение полёта такие вот панорамы. — А шо у вас за цацки такие? — любезно интересуется официантка, открывая разом череду бутылок. — Царь Митридат горшок разбил, подобрали, — отвечает Алик, утоляя первый аппетит. — Та чи царь из простой посуды ел? — Это у него ночной был. — Фу, ну и скажете тоже, — умело застеснялась она удаляясь. — Сорок лет, между прочим, портил кровь Риму, — цокает языком деверь, наполняя стаканы. Имелся в виду, понятно, Митридат Шестой Евпатор (132—63 г.г. до н. э.), на чьей, в сущности, могиле мы сидели. — Исключительно ненавидел. — А закололся. Нехорошо, — мотает головой Алешка. — Ха, почему закололся! Надо ж понимать. Помпей? Да в гробу он того Помпея... Сын изменил, зараза. И барахло ведь, не сын, доброго слова не стоил. Цезарь его жив: пришел, увидел — и кранты... А яд Митридата не брал — привычка, сам дозами принимал. Он выпить выпил, но не взяло, хоть уже был на седьмом десятке, представляешь — дедуля? Тогда он и говорит галлу: «Выручай, не хочу у них на параде идти, веселить гадов». — А кто был тот галл? — Алешке безумно, до расслабления нравится манера повествования. — Галл и есть галл, ты рубай, стынет. — Припирать Алика к стенке не надо, не любит. — Ладно, давай, пусть земля ему пухом... Видно, рацпредложение деверя было новым словом в механике, иначе зачем было бы его обмывать таким превосходным, с чудной горчинкой вином? В полотне облаков случилась прорезь, солнце софитным лучом показало нам сухогрузы на рейде, белый маяк на мысу, косу Чушку, самое грозное место в десанты. — А я скажу — человек на разрыв становится крепче, — вдруг как-то не по-своему молвил Алик. — Вот в Аджимушкае полажу — и ночь спать не могу. Страшно, когда поймёшь. Полк в подземелье полгода, воды нет, капли со стен ловят, над головой кучи бомб рвут — всё то ничего не говорит. А вот немцы пошли в атаку и несколько ихних солдат во тьме заблудилось, так через два дня уже стали звать: «Рус, возьми в плен». Это объясняет! Ведь не дети же запросились, лбы дай боже, и знали, что расстреляют, а «возьми». Человеческая натура боится подземелья, тьмы и жажды. Это есть ад! А к аду привыкнуть нельзя. II вот живой полк сам ушел в ад, дрался полгода и почти весь там остался, понимаешь? Такого прежде человек не выдерживал. Один закололся, другой руку себе сжег, тот марафон сделал и умер, но не полк живым в ад, нет! И вот ни камня путевого, ни слова над катакомбой... Да не надо б ничего, только фонтан и так, что ли: «Пейте, у них воды не было...» Алик посмотрел на нас, стыдясь своей патетики, взглядом прося прощения. Алешка сидел, нахохлившись: такое выпадало из программы. В Аджимушкай он не ходил. С ним в одном классе учатся пятеро немцев, с Гертрудой он катался на Воробьевке. Всё история — что Цезарь, что тот полк. — Давай, Алик. Вечная память. А «Митридат» всё полнится, любезной хозяйке нет времени убрать пустые бутылки, она только ставит, уже не открывая, новые. Алик, механик, как у тебя с тормозами? Впрочем, вино «Коктебеля», вино тети Маруси Брынцевой таково, что каждый новый стакан почти так же хорош, как предыдущий. А вид-то, а простор, а дух мокрой полыни, а голоса пароходов! — Слушай, а про стихи ты узнал? Стихи? Надо любить стихи. Таврида есть земля, музам любезная. Усилием воображения во-он на том откосе, за проливом можно увидеть — глядите, вон там! — невысокого, кавалерийского склада человека в форменном сюртуке, почти юношу — странствующего офицера с подорожной по казенной надобности. Его легкие петербуржского шитья сапоги ступают по заросшей лебедой тропе над обрывом. Он юн чувствами, крепок и чуток, он видит слепого мальчика, гибкую певунью-контрабандистку, он восприимчив к горю в любом его проявлении. Обругает Тамань самым скверным из приморских городов России — и одарит ее нетленным рассказом, заклеймит родину печатью «страны рабов» и обогатит ее сказочно — юноша, сосланный за Пушкина на пушкинские пути. Идио-оты, разве сюда надо было ссылать! — Ах, ах, гусары, — возникает из легкого тумана смеющийся Алешкин лик. Ну да, это из Вахтанговского театра, там такие потешные «Дамы и гусары», одна сентиментальная дама всё восклицает таким вот образом. Да, с чувствительностью надо кончать. Это от высоты. Но Россия... — Нашел, откуда стихи? — Стихи? Эти — «Там, где на землю брошена?»... Алик, — подумай, на кого мы бросим Россию? Ты видишь это юношество? Беда, беда, погибнет такая страна! — Пропала, погибла, а мы разве виноваты? Мы передадим всё, а там дело ихнее... Тихий восторг грядущего поколения. От вольной газировки у него икота. — Передадим всё — море, Митридата, Христофоро... — Точно, а как? Он же в Судаке? Слу-ушай, да чорт с ним, с тем мотоциклом, «фашист» еще бегает. Айда в Судак! Даешь Киммерию! Передадим по акту — и нехай у них голова болит... — Ах, гусары! — Ребятки, с вас получить? — В два дня обернемся — и с плеч долой... — Гусар-ры... — Ладно, за сдачей придем... Дайте я в щечку. — Молодой человек, на лестнице держите их. — Кого? Стихи я найду в «Редкой книге»... Это отдел такой при Ленинке, отличный... Сказал — найду, не смей сердиться... Как, билеты только на завтра? Все равно, три взрослых. Сзади, чтоб спать. Стой, а где мы взяли мотив для этой песни? Там, где на землю брошена Утром Алешка разбудил нас, суя под нос какие-то зелёные квитки и твердя: — В восемь, в восемь отходит... Посовещавшись, заключили, что накануне было принято самое трезвое и глубокомысленное из возможных решений. У Алика свободны целых два дня. Над Таманью висят тучи. В Киммерию! IIЧто за радость, что за наслаждение эта «Редкая книга»! Едешь автобусом до Александровского сада, минуешь Кутафью башню и, не в силах сдержать нетерпения, перемахиваешь в переходе сразу по три ступени. Колоннада Ленинской библиотеки, каменный внутренний дворик с фантастической рыбой на фонтане, и за дубовой массивной дверью — — Вы в «Редкую»? — почтительный вопрос гардеробщицы. Взбегаешь по широкой, белого мрамора лестнице с медными балясинами — второй этаж, третий... Наконец! Длиннющий пустой зал, витрины с фолиантами — музей книги. А в самом конце зала, словно вход в святая святых, — маленькая неприметная дверь. Ступаешь неслышно, поддаваясь царящему покою. Уже сидят, каждый за своим столиком — художники, филологи, книжники. — У вас заказаны? — Да-да... Сейчас принесут. Ну, вот. Доброе воскресенье, авторы. Вы отлично выглядите, Павел Иванович Сумароков, кожа переплёта без единой морщинки, а голубая бумага так идет чувствительной ортодоксальности «Досугов крымского судьи». Дерзкие насмешники возродят ваш стиль в мудростях Козьмы Пруткова, да Бог их простит... Николай Мурзакевич, вы ученый, как же не совестно было посвящать книгу графу Воронцову, да еще называть полу-невежу «просвещеннейшим вельможей своего времени»? А вас не упрекну, Станислав Сестренцевич: этот экземпляр «Истории о Таврии» вы надписали графу Румянцеву, чернила давно порыжели, а библиотека, книголюбом основанная, процветает: в неё я сегодня пришёл. Благородный Муравьёв-Апостол, вам и в «Путешествии в Тавриду» удалось проявить республиканский дух, ваш декабристский род может числить в заслугах и эту книгу: из нее перешла в «Бахчисарайский фонтан» пленная полячка... Я знаю, среди вас нет Радищевых. О Крыме, экзотической новой провинции, писать было приятней и легче, чем о деревнях меж Петербургом и Москвою. Вы не знамениты, подчас помпезны и велеречивы — что делать? Многие должны были забыться, прежде чем страна обрела перо Пушкина. Но у вас — заслуга первого видения, вы помогали человеку оглядеться, осознать наследную причастность к единому потоку мировой культуры. Итак, зачем пригласил я вас в этот воскресный день? В Москве зима. И мне особенно хочется в Крым. Точней — в Восточный Крым, в ту сторону, которая... Да-да, я охотно даю вам слово, Павел Иванович, примите нужную позу и расстегните камзол. «Таковой угол Крыма, вмещая в себя ужас, прелести питорических видов, драгоценнее всего остального его пространства. Он как сим, равно встречающимися развалинами древности, напоминанием о народах, в нем обитавших, и превратностями своими заслуживает всякое внимание. Путешественник увидит совокупную Италию со Швейцариею, то, о чем живопись, описание и само воображение слабые подают понятия, он увидит рай на земле и истинные сокровища России». Вот именно. Благодарствуйте. Почему я, однако, не пытаюсь перенестись туда, используя путеводители издательства «Крым»? Увы, в них фантазия особо не повольничает. Описание, это средство почувствовать край, в наш век не в чести. Путеводитель сообщает, что Девичья башня в Судаке «представляет в плане неправильный четырехугольник». Конечно же, это так, и всё же... Вы не прочь что-то сказать, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол? «Генуэзцы как будто искали производить в потомстве удивление к дерзости каменщиков своих: иначе я не постигаю, для чего бы стена оной стоит по отвесу со стремниною скалы». Ну вот, здесь уже картина. Признаться, школьниками, взобравшись на генуэзскую крепость, мы тоже недоумевали: как можно было перетащить на этакую верхотуру столько камней и раствора... Ах, Павел Иванович, вы снова? Меня, право, могут упрекнуть в пристрастности. Разве только что-то весьма важное. «Я, пропустя в окно башни мою голову, взирал с трепетом на обтекающее море, на мое отделение от поверхности земной. Я не верил глазам своим и удивлялся моему вознесению. Что почувствовала бы мать, любовница, приметя сына или любовника, мелькающего под облаками? Читатель сам от единого воображения содрогнется». Крепко сказано, автор «Досугов», непременно содрогнется! Но — к делу. О чем я намеревался спросить вас сегодня? О том ли, что Таврида, место действия многих мифов, дала Элладе? Известно, Демосфен то отмечал особо, что из Пантикапея в Афины поступала пропасть хлеба, на наш счет — около двух миллионов пудов в год... Или что Крым принес Риму, Византии, Орде, Венеции, Генуе, Турции? Никак нет. Все мы корыстны. Что дал он Руси, России — вот вопрос. (В этот день не спрошу вас о несчастьях, о разбойничьем гнезде, что несколько веков когтило весь Юг страны, смерчем докатываясь по Муравскому шляху до самой Москвы, и продлило мучительное отставание государства, пока не охладили бритоголовую ярость гренадеры царя Петра...) Я понимаю, Мурзакевич, начинать с головы святого Климента — поздновато. Уже была Феодосия, то есть Богоданная, колония эллинов, там весть о новой премьере Аристофана, пришедшая на парусах, воспринималась с неменьшим интересом, чем ныне в Мурманске и Судаке расспрашивают о Театре на Таганке. Херсонес как полноправный полис прожил веков семь, прежде чем император Троян направил сюда, рабом в каменоломни, римского епископа Климента. Но ссыльный зэк стал так пропагандировать христианство, что в городе вскоре стояло 70 церквей. Императору пришлось утонить упрямого в Черном море. А всего через семьсот шестьдесят лет неповрежденные мощи каменотёса нашел у берега Константин-философ — его мы знаем как монаха Кирилла, создателя нашей письменности. Находку он разделил на три доли: одну отнес в Константинополь, другую — в Рим, голову же доставил в Киев. И последствия то имело настолько значительные, что, право же, можно и с головы. Столетие спустя могущественный князь Владимир пришел к византийскому Херсонесу с кроткой целью: креститься. Правда, для этого ему понадобилось сперва взять город штурмом. Обычный тогда способ причащения к святыне. Новгородский князь Бравлин, например, десять дней стучался в ворота Судака таранами, прежде чем судачане согласились открыть, и князь смог взять с гроба Стефана Сурожского «жемчюгъ, и злато, и камень драгый, и кандила злата, ссудовъ златых много». И Владимир вместе с верой во Христа увозил иконы, колокола, а также заинтересовавшие его скульптуры и работы чеканщиков. Дива в этом еще не было. Подлинным же чудом, повергшим королевские дворы тогдашней Европы в транс, стало сватовство энергичного князя полян к порфирородной Анне, принцессе константинопольской. Византийские императоры — первые среди монархов, они носители вековых традиций Рима, и притязания удалого славянина на равенство с властелинами Царьграда казались бы невероятными, смешными — если бы не были признаны самим Византием. Взятием Корсуни жених уверил, что невеста попадет в крепкие руки. Нет, не случайно Кирилл делит меж тремя городами так удачно найденные мощи: на востоке Европы расцветает первостатейное государство. Византий передал Руси наследие античной культуры. Если с севера норманские дружины приносят науку о воинском строе и понятие о грабеже как профессии, то через Понт, Корсунь, «из грек» идут приемы архитектуры, навыки книжного дела, каноны живописи, идут не боящиеся веков образцы: древнейшая песнь материнства — Владимирская Богоматерь, каменная Святая Софья над Днепром и у Волхова, мозаики Киева. Средиземноморский привой нашел за «морем Русским» богатые жизненным соком подвои. Черная волна татарщины изорвёт кровеносные связи, разольётся по степям мерзостным морем рабства и варварства; не знающие грамоты чингизиды станут диктовать через пленных писцов свои обещания цивилизациям: «Когда весь мир от восхода солнца и до захода объединится в радости и в мире, тогда ясно будет, что мы хотим сделать». Но поздно. За охранными лесами донских и волжских верховий, на берегах Нерли, Москвы Великой развилась удивительная по жизнеутверждающей силе культура. Во дни тягчайших испытаний, в века разлагающей гнусности ига она будет для народа стержнем единства, залогом вызволения, щитом и булатом. Уже пустила корни пришедшая морем идея о Москве как «Третьем Риме», четвертому же не бывать. Процесс подсадки не прекращается, роль Тавриды остается прежней, и северные живописцы, зодчие станут рождать шедевры Ренессанса в одну пору с Италией. Еще не гремела Куликовская битва, когда из Феодосии-Кафы переехал в Москву известный царьградскими и крымскими фресками живописец Феофан. Ему предстоит чуть не полвека трудиться в Москве, Новгороде, Нижнем, расписать сорок храмов, удивляя и свободой, легкостью, быстротой письма, и способностью (позже отличавшей Леонардо) во время работы беседовать со всеми приходящими; ему предстоит стать всенародно чтимым, заслужить у современников аттестацию «живописца изящного», мудреца и философа — и все же величайшим творением Феофана Грека останется не картина, а мастер. Феофан учил Рублева. Не свидетельствуй даже то летописи, мы знали бы о близости титанов. Родство выдаёт «голубец», исключительно редкая тогда ляпис-лазурь — краска яркого голубого тона, даже в Италии ценившаяся дороже золота. На головах феофановских богородиц платки того лазурного цвета, какого не найдешь на Руси ни до Грека, ни после него — до гениальной рублевской «Троицы». Плащ среднего и риза правого юношей светятся воистину неземной, пронзительной голубизной... В Эрмитаже ты видишь детский рожок из эллинской Тавриды, вроде гончарного чайника с длинным носком — и отгоняешь желание принять вещицу за свою, только давным-давно потерянную, пролежавшую под травой тысячи две лет. Не к чему набиваться в родню, не одним молоком воспитаны. Но наследование — истина. И если б голубой полуостров, приютивший по мифу дочь Агамемнона и реального каменотеса Климента, уже веков десять назад почему-либо исчез бесследно — и тогда признательную память о нем сохранила бы великая северная народность. Согласен, Максимилиан Александрович Волошин, негоже все про греков, когда тут, завихряясь в движении, смешивалось столько культур, народов, насыщая памятью феодосийских и судакских речек. ...И скорлупа милетских тонких ваз, Не археология тут нас интересует — в этом смешении, в насыщенном этом растворе некогда кристал-лизовался тип русича-южанина, формировалась натура таврического помора, столь многими чертами необычная, что былинное творчество, внимательное только к значительным явлениям, считает нужным откликнуться. Сурож средневековья — большущий город, центр черноморской торговли, «Слово о полку Игореве» включает его в границы русского влияния, и гость-суроженин становится героем былины. Это Чурило Пленкович. Он молод, поражает воображение богатством и лоском, его достоинства неотразимо действуют на прекрасный пол — да добро б только на «молодушек», а то ведь и на самоё княгиню Апраксию! Будь написан к поре сложения киевского цикла былин «Декамерон», мы принуждены были б помянуть об итальянских сверстниках Чурилы, но до Боккаччо еще далеко. «Бабий угодничек» сурожского происхождения держит себя в Киеве столь независимо, что сам князь Владимир вынужден съездить к нему — окоротить, ввести в рамки. Что за юный Чурило (Кирилл), возведенный Владимиром в стольники, послужил прототипом былине — можно только догадываться. Зато точно известны имена сурожан в возрасте степенном, тех, что были взяты Дмитрием Донским на Куликово поле: «видениа ради, аще что Бог случит поведати в далных землях». Решаются судьбы Руси, и в свидетели битвы берется свой брат-русич, но с опытом международных общений, человек абсолютного авторитета и твердого слова, знающий, кстати сказать, языки. Надо полагать, сурожские гости Василий Капица, Козьма Ковырь, Константин Болк, Тимофей Весяков, Дмитрий Черный, Семен Онтонов и четверо их товарищей исполнили долг с радостью и достоинством; миссия же сама собою характеризует их, словно подтверждая, что хорошее вино в срок бушует, в срок обретает ясную крепость. Национальный характер — сложнейший из сплавов, всякая добавка в нем важна; какими бы дозами ни присутствовали в нем черты южных поморов, они есть, не исчезли бесследно и, хочется верить, отнюдь не ухудшили заветную смесь. Общение, общение, недалека от глупости, учит Шекспир, домоседная мудрость! Как пестрые камни в коктебельском прибое, сталкивались, шлифовались на пристанях и в долинах Крыма обычаи, нравы, натуры. Кого же узнавал тут сурожанин? Имена, нужны имена, безымянность — кара истории! Пожалуйте вперёд, Гильом Рубрук, предстаньте во всей красе — дородный францисканец, босой по правилам ордена, обожженный солнцем неведомых Европе степей, книжник, упрямец в трудах, любитель поесть, истинный родич Кола Брюньона. Это вы, посол Людовика Девятого, короля франков, были направлены на разведку в империю монголов и высадились в Судаке-Солдайе 21 мая 1253 года? «Мы прибыли в область Газарию... Газария имеет город, именуемый Солдайя,.. туда пристают все купцы как едущие из Турции и желающие направиться в северные страны, так и едущие обратно из Руссии и северных стран и желающие переправиться в Турцию. Одни привозят горностаев, белок и другие драгоценные меха; другие привозят ткани из хлопчатой бумаги, бумазею, шелковые материи и душистые коренья». Вы знали, что ваши шансы умереть по дороге в ханский Каракорум от голода и холода равны возможности быть зарезанным на любом ночлеге? «Некий богатый монгол... сказал: «Я должен отвести вас к Мангу — хану; это — путь четырех месяцев, и там стоит столь сильный холод, что от него раскалываются камни и деревья... Если не сможете выдержать, я оставлю вас на дороге». Босиком в декабре по Прибайкалью — это ни к чему, орденский формализм. А вот в ханской юрте вы держались молодцом! «Мангу-хан протянул ко мне посох, на который опирался, говоря: «Не бойтесь». Я, улыбаясь, сказал тихо: «Если б я боялся, то не пришел бы сюда». Улыбка — это отлично, честь мужеству. За восемь месяцев пути вы убедились: выказавшему робость отсюда живым не уйти. Для западной части Европы татаро-монголы все еще оставались страшной загадкой, и ваш дневник представил миру новых гуннов; он был бы донесением разведчика, если б так не походил на труд этнографа, и мог быть назван работой географа, если бы не был книгой о психологии варвара. «Они очень надоедливы и бесстыдно просят то, что видят, и если человек им дает, то теряет, так как они неблагодарны. Они считают себя владыками мира и им кажется, что никто не должен им ни в чем отказывать... Если бы мне позволили, я стал бы, насколько у меня хватило бы сил, во всем мире проповедовать войну против них». Полно скромничать, брат Гильом, вы и без позволения произнесли проповедь отпора страшной силе. Но и то ведь сказать: не завязни она, эта сила, под Рязанью, Козельском, Киевом — для кого была бы та проповедь? Пепел гулял бы по виноградным долинам Европы. Вы ж лично, достойный францисканец, вернулись из дерзкого путешествия с богатым полоном: сотни историков, археологов, востоковедов вот уже восьмой век покорно бредут за вашим конем. Француз Рубрук был в Тавриде гостем, так. Но Италия — она в позднее средневековье чувствовала себя здесь хозяйкой. Генуэзцы построили сорок замков, причалы и доки, в Кафе и Солдайе были возведены перворазрядные крепости. Конечно, граждане «светлейшей общины» были на этих берегах чужеземцами; черноморскую торговлю они вели, разумеется, с большой выгодой и превыше всего ставили свой интерес — недаром «кознями Генуи лукавой» назовет политику колонистов Пушкин. Но сегодня в книжках, брошюрах, массовых путеводителях так усердно честят генуэзцев хищниками, грабителями, чуть не оккупантами, что, неровен час, примешь их за грустное исключение в тогдашнем кротком и бескорыстном мире и сочтешь пребывание владений итальянской торговой республики на отторгнутом у ханства берегу тяжким несчастьем для Руси. А коль так — пусть постигнет корыстных возмездие! Материализуется это возмездие в равнодушии к уникальным для Союза памятникам итальянского средневековья. В Карантине, феодосийской крепости, не увидишь туристов; в Доковой башне, почти шесть веков простоявшей у кромки прибоя, разместили нефтебазу; зубчатые бастионы Криско и Климента очень нуждаются в укреплении, Круглая башня просто разрушается, как и своды базилик, стены внутреннего кольца. Сорок лет назад академик Грабарь с радостью писал из Феодосии, что открыл «под полувершковым слоем штукатурки фрагменты (пока только одежд) высочайшего стиля, полностью совпадающего или, по крайней мере, не противоречащего феофановскому». Поди сегодня, приезжий, попробуй повидать остатки фресок Феофана! На храмах — ржавые замки, не войти и в ограду, вообще не найти концов. Приморский город словно стыдится своей древности, прячет живучие ее следы за фасадами сборно-панельных домов, и только дотошный паломник выявит, что же здесь показывал феодосийский старожил Пушкину и о каких-таких «вековых стенах прежней Кафы» писал Грибоедов. А всё оттого, что «чужие». Если б с меркой «своего-чужого» входили в Крым присоединившие его к России полки, не видать было б потомкам ни дворца Бахчисарайского, ни фонтана: ханство заслуженно звалось «бичом народов». Фонтан же уцелел до Пушкина — и обрел бессмертие. Смешно вступать с делением на «свое» и «чужое» в такие собрания, как Оружейная палата, Эрмитаж... Кто вносит предложение — Майориан, римский император средины V века? Нет-нет, заранее отвергается, извольте вернуться на стеллаж! Пусть ваш эдикт и значится первым в истории законом об охране памятников, руководствоваться им гуманный XX век не позволит. Конечно, похвально требовать, «чтоб все здания, воздвигнутые древними для общественных нужд и для украшения города, будь то храмы или другие монументы, оставались неприкосновенными». Но какие гарантии вы прелагаете? Ужас. «Чины, находящиеся на службе порядка, а потому ответственные за сохранность древних памятников, если допустят их разрушение, будут приговорены, после соответствующего наказания плетьми, к отсечению рук». Жутко представить, что и сейчас эдикт имеет силу, страшно вообразить в горсоветах толпы одноруких. Защищайтесь-ка вы сами, граждане торговой республики. Попробуйте убедить, что генуэзцы бывали разные, что наряду с интриганами, не продававшими разве самих себя, были мужи чести, чьи представления о правах и достоинстве человека разовьются до идеологии, сметающей Бастилии. Исправность ваших архивариусов и прочность сводов библиотек донесли до двадцатого века редчайшую документальную драму времен Возрождения. Русские наблюдали ее воочию, она рисовалась им трагедией, турки «чего не могоша бранню сотворити, совершиша то златом». Считать ли сегодня те события учебным пособием, притчей о добре и зле или иллюстрацией к эпохе первых буржуазных революций? Вольному воля. А назвать происшедшее можно было б в духе времени, скромно и незатейливо, чтоб проще было герольдам, скажем: «История о достославном Христофоро ди Негро, консуле Солдайи, о хитроумных и аморальных братьях ди Гуаско и светлейшем кафском консуле Антонио ди Габела, изменнике по убеждениям, или Как пала Кафа, притон бесчисленных богатств и повелительница Черного моря». Началось в пору дозревания винограда, росяным августовским утром в консульском замке Солдайи. Строгий Христофоро, шагая по кабинету, диктовал нотариусу Портуфино приказ. В приемной, додремывая, ожидал кавалерий Микаеле ди Сазели, чьей обязанностью было отпирать базарные ворота, следить, чтоб ночью никто не появлялся на улицах, а пять скучающих ханов, содержавшихся в крепости как резерв для крымского престола, не вздумали дать дёру. С кавалерием явились солдаты-аргузии, они вполголоса обсуждали новость. Давние враги республиканца-консула дворяне братья ди Гуаско вышли за всякие рамки. У своего замка они поставили виселицы и позорные столбы — символы феодальной власти. Это в солдайской округе, где население вольное! Теперь консул приберет их к рукам. Закон на стороне ди Негро, да как бы в этой драке меж сильными не досталось простому аргузию. У чванливых Гуаско — сильная рука в Кафе, у главного консула всех черноморских владений... «Во имя Христа. 1474 года 27 августа, утром в доме консульства. По приказу досточтимого господина Христофоро ди Негро, достойного консула Солдайи, идите вы, Микаеле ди Сазели, кавалерий нашего города, и вы: Константино ди Франгисса, Мавродио, Якобо, Кароци, Сколари, Иорихо, Даниели, аргузии нашего города, ступайте все до единого в деревню Скути. Повалите, порубите, сожгите и бесследно уничтожьте виселицы и позорные столбы, которые велели поставить в том месте Андреоло, Теодоро, Деметрео, братья ди Гуаско». Чуяло сердце! Вечером того же дня бравые аргузии сидели в приемной уже с повязками на головах и со следами потасовки на лицах, А Портуфино строчил протокол об оскорблении консула. Гуаско встретил власть отрядом из сорока головорезов, те пустили в дело дреколье и похохотали над приказом, не скупясь на срамные слова. А Христофоро словно и не ожидал иного. Новый приказ наглецам-феодалам — представить документы на владетельные права или уплатить разорительный штраф в тысячу сонмов — снесет в замок аргузий Даниели. Надо спешить, пока Гуаско не дали знать в Кафу своему защитнику, прожженной бестии и мздоимцу Скварчиафико, правой руке всесильного консула Черного моря Антонио. Увы, солдайский правдолюб, у Гуаско хорошие кони, двери канцелярий откроются для братьев в любой час, и кошель с полновесными сонмами они охотней отдадут сговорчивым людям Кафы, чем в ваше казначейство! Вот и первая ласточка от Габелы: «Приказываем вам и строго предписываем повременить и воздержаться от исполнения этого дела». Не трожь виселицы, ди Негро! Где ж ты, справедливость, оплот республики? Кафский властелин шлёт для разбирательства Скварчиафико, этого казнокрада и лицемера, погрязшего в черных делах! Честному Негро угрожать судом? Так поднимите ж перчатку, канальи, выслушайте правду, отныне у вас с Христофоро мира не будет! «Подкупами и большими подарками, сделанными в Кафе некоторым лицам, соглашающимся быть заодно с главарями, они установили способ отменять в Кафе... приговоры, вынесенные в Солдайе... Отец их, заботясь о приращениях к своему богатству, захватил обширные участки земли вокруг Солдайи, так что жители Солдайи лишились возможности сеять хлеб, косить сено, заготовлять дрова. Солдайцы вынуждены делать это не иначе, как на захваченной ди Гуаско земле, сделались зависимыми от них, по их воле ходят к ним на работы... Господин Христофоро указывает вам на того Андреоло и доносит на него вам, консулу Кафы,.. вы должны того Андреоло осудить и наказать по закону и согласно уставу». Осудить... Судьи-то кто? Сам Габела продает за шесть тысяч золотых пост сельского правителя одному татарскому княжичу. Бахчисарай возмущен: вор у вора дубину украл. Скварчиафико покрикивает на хана, угрожая выпустить из Солдайи пятерых резервистов. Из Бахчисарая летит посольство в единоверный Стамбул, угроза турецкого вторжения в Крым становится все реальней. Габела срочно требует у Солдайи каменщиков — чинить бастионы. Нет, баста, Кафе с ее семьюдесятью тысячами торговцев достанет народу на стены, а Христофоро укрепит свои город, чтоб или отразить армаду неверных, или погибнуть с честью. Скоро конец консульскому сроку ди Негро, скоро упрямец предстанет пред советом самой Генуи, разоблачая ложь и тиранство... И опять — поздно! Первого июня 1475 года в бухту Кафы вошел флот Ахмет-паши, началась канонада. Громадный город населением своим втрое превышал число осаждавших янычар и сопротивляться мог бы долго. Но правители его знали одно оружие — предательство. Подкупленный пашой Скварчиафико открыл ворота, турки, залив улицы кровью, взяли неимоверно большой полон, по тогдашнему миру покатилась страшная весть о падении «Матого Царьграда». На девятый день грабежей паша дач торжественный обед, пригласив на него и главных изменников. «Потом при прощании с ними велел им сходить одному за другим по весьма узкой лестнице, внизу коей ожидал их палач с поднятым топором для отсечения им голов. Он оставил токмо вероломного Скварчиафико, главного виновника гибели Кафы, коего отослал на казнь в Царьград». (С. Сестренцевич). Не так умирала Солдайя! Рвы у стен были полны трупами янычар, когда последняя тысяча защитников заперлась в большом храме, чтоб в огне достойно принять смерть. Султану рабов не досталось. Но почему из работы в работу передают историки слух о том, что малой группе итальянцев удалось бежать по тайной тропе к морю? Неужто просто хочется, чтоб все-таки спасся последний консул Солдайи, неподкупный Христофоро по прозвищу Черный? ...Пустеет зал «Редкой книги», за окном густосиние зимние сумерки, на зубцах Троицкой башни устраиваются ночевать галки. Мне срок прощаться с вами, авторы, и, видит бог, это грустно. Так что ж ты дал России, Крым? Облучил Пушкина. На одно лето сделал поэта счастливым. Радость видеть море, горы, долины, прикосновение к античности, экзотика Востока, веселый мир души, безбрежное счастье свадебной красоты мира, здоровья и юности — всё помнилось ему и грело до конца дней. Воображенью край священный: После здесь жили Толстой, Чехов, Горький, Бунин. Шаляпин, Поленов, Вересаев, Маяковский. Паустовский, Платонов, Булгаков, Грин... По, как первую любовь, сердце Крыма не забыло курчавого юношу-ссыльного, и незадолго до смерти коктебелец Волошин произнесет чуть высокопарное, но искреннее: Эти пределы священны уж тем, IIIА в Судаке было яркое солнце, и девочка в коротеньком платьице, стоя на стремянке, рвала нам с дерева персики. Она была длинная и стройненькая, каким-то образом сама знала это, и я подумал, что мама ее, когда была такой или чуть старше, гоже знала, какая она, а мы не догадывались, что она знает. За Таней, двенадцатилетней племянницей Алика, мы зашли, чтоб иметь в своем составе при походе к морю женщину. Вдруг да придется искать Анютку, дочку соседей, отдыхавшую в Судаке, на женском пляже. Анютка — студентка, «свой парень», при случае огорашивает приятельниц матери присловьями типа: «Зубы жмут? Могу расставить», изучает отечественную историю почему-то на английском языке (факультет такой), мы решили пригласить ее с собой в путь по Киммерии. Таня набрала в сумку помидор и вяленых бычков, переоделась в матроску с плиссированной юбочкой, быстренько переплела косы, покусала перед зеркалом губы и, повесив на калитку листок «Комнат нет, коек нет», строго сказала: — Пошлите. Дорога вела среди виноградников. Татьяна несла на макушке нейлоновый бант достойно и просто, как королева: не скажешь «воображала», не подумаешь — «тю, аршин проглотила». Ибо мы были на людях, то есть на виноградниках бригады ее мамы. И речь нашей водительницы была чинной: про то, какая прорва отдыхающих, на базаре ничего не захватишь. Мы же с Аликом толковали, что теперь бы нам в этой долине не прокормиться: старые кусты раскорчеваны, всюду линейки шпалеры, а в них сторожам на километр видно дрозда, не то что человека. «Сия миллионная и богатейшая в Крыму долина», как аттестовал ее почтенный Сумароков, была для нас новой землей, и мы покорно шли за проводницей. Эх, как в свою пору знали здешние виноградники пацаны, военная безотцовщина! Каждый куст белолиственного «чауша», каждая кисточка «шаслы», поспевающей в начале августа, держались на учете, даже кромешной ночью их без труда находили в пучине поздних сортов. Никакой агроном не мог помнить расположения «александрийского муската» и «дамских пальчиков» с той ясностью, которой обладала наша юная и вечно голодная память. Пока грозди оставались на чубуках, хлебные карточки не казались разрешением на жизнь — была бы хамса, виноград не выдаст. Сбор винограда — работа не легче иной, но как любили, как ждали ее! Дни не знойные, ясные, все на одном участке, веселые, добрые друг к другу, над чанами, пахнущими броженьем, вьются незлые осы. В обед никто в столовку не идёт — располагаются у старого громадного каштана или у родника, где айва, делятся чесноком, тюлькой, тормошат или обливают ледяной водой дядю Илью Папшева, силача, единственного мужика не-начальника в нашей бригаде. Отогнав мальчишек, тетки устраивают купание в омутах быстрой речки, под зарослями ожины и одичавшего винограда. На море наши тетки, солдатские вдовы, не ходили: в будень после работы надо было нарезать корове вязанку травы и успеть полить огород, в воскресенье огород приходилось цапать, надо было ехать в Карагач за дровами или собирать на зиму «чеканку» — верхушки виноградных побегов, наш эрзац сена. Как-то забылось, что край — курортный. Уборка была нашим теткам и отпуском, и санаторием. В сентябре они прямо на глазах молодели, свежели; морщинистая, черная от солнца, с коричневыми от молочая пальцами тетя Лина или тетя Галя вдруг оборачивалась озорной молодухой, лихо подхватывала припев про то, что «вдова вмие цилуваты», и у подвод с чанами звучали шуточки, от которых нас кидало в жар. Но какой грустью, каким безысходным сиротством дышал участок, когда дядя Илья выносил на плечах последнюю кадь «шабаша», директор совхоза поздравлял наших теток с завершением, а мы оставались ни с чем! Листья торопились пожелтеть и осыпаться, обнажая на чубуках редкие холодные ягоды, ряды высоченных тополей принимались уныло шуметь, и впереди оказывался длинный скучный год с подрезкой, перекопкой, подвязкой, бесконечной цаповкой... — Подорвали старый сад на героях, маме пришлось пересаживать, — бросила через плечо королева в плиссе. Слова были чьи-то, но оттенок укоризны принадлежал, безусловно, нашей королевне. Все так, ваше высочество. Кусты с темно-сиреневой слоистой корой впрямь не достигли своей виноградной старости, когда, ослабевшие от перегрузок, были выкорчеваны и досыхали кучами у летних кухонь. Судак, прошумевший своими героинями соцтруда, не один год принужден был помалкивать, ожидая ввода в дело молодых шпалер. Но примите в оправдание, что теперь под разным листом не только дно судакской чаши, но и те плато под Георгием и Перчемом, где росла только полынь, и мы с рогатками охотились на перепелок; что вообще засушливые долы, склоны, террасы Киммерии никогда, никогда прежде не питали столько ухоженных лоз, что мудрые профессора-виноградари давних лет поразились бы — как на шиферных скатах родят превосходные европейские сорта. И то поимейте в виду, что мозолистое ремесло виноградаря, пребывавшее почти неизменным с эллинских времен до дней нашей с деверем юности, живая тягостная археология, вдруг стало отраслью машинного труда. Каким чудом незрячий лемех трактора обходит виноградную лозу, но срезает корень осота? Вертолет опрыскивает листву, защищая ее от грибковых недугов; гидравлика вгоняет в грунт бетонные опоры, и конструкторы уже колдуют над машиной для уборки гроздей. От заступа-лескера и мотыги к вертолету — согласитесь, это внушительно. По вы не внимаете, водительница... — Драсьте, дядя Илюша, скажете маме, что я на море пошла, ага? Вот с ими, — кивок в нашу сторону. Сухой сутулый старик, чинивший шпалерные нити, распрямляется и, щурясь от солнца, пристально смотрит на нас. Да не может быть! Но такие длиннющие руки с огромными ладонями были у одного его, и только он умел летом заго-рать до такой черноты. Дядя Илья, ты понял — я лгу, будто сразу тебя узнал, будто изменился ты мало. И дело пустяковое, не по тебе, и плечи будто усохли, не блестят от пота... — Ребята-ребята, куда сила ушла! Видишь, какой стал? А все виноградник вытянул. Ты был богатырем этой долины, дядя Илья, ты делал самую тяжелую работу и был простоват — никогда не ловчил, не халтурил, делал, как сказано, и проверять агроном к тебе не ходил. А звезды тебе не досталось, хоть держалось тут всё на тебе. — Я ж, помнишь, специальный лескер Сеньке-цыгану заказывал, каждую осень ставил ему четок, чтоб сталь клал получше и захват в аршин... Какую семьищу тащил, сам всегда впроголодь, а ведь никто из нас не получал от тебя лозиной, ты сам предлагал взять в школу по кисти «кокура». И когда ты с вязанкой на плечах и блестящей садовой пилой на боку шел в сумерках к дому, мы думали, что ты красивый, как Чапаев. — ...а баллон с купоросом целый день носишь — что, без вреда? По спине течет, потом радикулит. А серой опылять, а дубы на кол распускать, а дренаж чистить? Есть в моей жизни момент, какой вспоминаю с гордостью и со стыдом разом. Взялся тягаться с дядей Ильей! Мне было 20, возвращаться с каникул в университет я решил непременно в новых штанах, а работа подвернулась выгодная: рыть ямы для зеленых отводок. Двенадцать ям по метру глубиной — норма, четырнадцать тогдашних рублей. Я вырыл 24 и зауважал себя: ведь среди кустов жар, как в духовке, глина, камни, а вот жив и невредим. И тут узнал, что Илья Папшев роет по сорок пять. Мои домашние стали помогать — заваливали ямы с отводками, это работа полегче, но сберегала половину времени. Я сделал сорок, через день — пятьдесят, и сил вполне хватило добрести до дома. Дядя Илья не поверил учетчику и вечером сам сходил, пересчитал. Это было высшей похвалой, и я дошел до шестидесяти, а в один день вырыл, кажется, 62. Папшев, работавший в одиночку, стал делать в день по четыре — четыре с половиной нормы, но не больше. О нашей тяжбе стали поговаривать, в торжестве своём я не хотел помнить, что, в сущности, делаю половину работы. Есть приходилось столько, что мои рекорды, видно, вгоняли наших в разор. Но брюки были добыты — самые лестные в жизни брюки... — Дядя Илья, а тогда-то, на отводках, мне мама и Ольга помогали. Если б тебе — ты бы и сотню взял. — Не, мне рваться нельзя было... И так ведь за троих тянул, а «пензия» теперь — за одного. Жилу сорвать ума не надо. Теперь-то летят-вертят, а на хребте волочить их не заставишь. Я на вертолет не гож, боюсь. — Они, на вертолетах — слабаки. Ты по пуду винограда в день ел. — Чесноку не хватало. А без чеснока что: одну цибарку — и уже оскома. Мне довелось познакомиться с одним вертолетчиком, он опрыскивал виноградники. В сельскохозяйственную авиацию попал после службы на дальних бомбардировщиках, называл вертолет «гондолой» и работы своей стеснялся. Среди рабочих он выглядел щеголем, но ворот голубой рубахи у него был потерт, он и этого стеснялся и то и дело подтягивал повыше кожаную куртку, чтоб не видно было потертости. О винограде он почти ничего не знал, но охотно говорил про опасные потоки с гор, они бросают «гондолу». И про приличные деньги тоже — это как бы извиняло работу, которой он стеснялся, как потертого воротника. Дядя Илья, проливавший в день по ведру пота, дела своего не стеснялся и чувствовал себя хорошо, а тот майор, справляющийся за сто или двести Лаптевых, — он работой не доволен и не уважает ее. Может, был способным военным? Не знаю. Но прогресс, не доставляющий гордости его носителю, — что-то странное. Ты был настоящим богатырем, дядя Илья, потому что сила доставляла тебе радость, ты ни одного дела не сделал худо и не поднимал больше того, что посильно и разумно. Права молва: до срока сгорели благородные стволы, питавшие послевоенную поросль. Сгорели, а правила доброй работы остались. Не соблюдай их — будет вечно портить тебе жизнь какой-нибудь потертый ворот. Рыжей в солнце и синей в тенях короной венчала скалу над морем генуэзская крепость. Вот ведь диво: с каждым приездом всё в долине уменьшается в размерах (от почты все ближе до пляжа, а от школы до шелковицы Святских просто рукой подать), но Консульский замок, башни Бернабо, Круглая, Девичья становятся все грозней и величественней. Когда-то историк Погодин написал: «Во всей Европе нет развалин живописнее этих, никакие рейнские замки не сравнятся с ними». И теперь отзыв этот так усиленно поминают, что становится тревожно: а вдруг в Пиренеях или в Скандинавии сыщется что-то капельку живописнее, что тогда? Но если одессит просто вериг, что его оперный театр второй в Европе, то судачанин спокойно и твердо прилагает к крепости письменный аттестат. Море смеялось. Оно смеялось над нами, помнившими берег пустынным от острова под Генуэзской до самого Алчака. Лежбище котиков без шуб? Таганка в часы пик? Столпотворение вавилонское? — Вот как свободно сегодня, а в воскресенье народ понаедет, — сказала Таня. И всё же под самым крепостным откосом, ниже храма Двенадцати апостолов, мы издали заметили совершенно свободный уступ. Ах, вон в чем дело — раскопки! Площадка, питавшая рыбацких коз, таила под собой улицу портовых кабачков с очагами, большими амфорами под вино и масло, с комнатами для гостей, со всем, чему положено быть на желанном для моряка берегу, а извлекла это на свет, как гласила запрещавшая вход надпись, археологическая партия из Киева. Судак — рай кладоискателей. Не так давно под Алчаком нашли сразу тысячу сто монет боспорской чеканки. Но деньги из Судака мигом увозят, а улочку веселую, дудки, не увезти. Алик, оглядевшись, воровски переступил в раннее средневековье и на цыпочках, боясь что-нибудь пошевелить, заглянул в первую таверну. Сел на ступеньку, довольно потер руки и негромко приказал: — Хозяин, кувшинчик вина и козлиный задок с каперсами! — Вы шо, читать не можете? — заставил его вздрогнуть злой девчоночий голос. Две особы, Танины ровесницы, с угрожающей скоростью двигались к нему. — А ну давайте отсюда по-быстрому! — Та я ж только посмотреть, — искательно улыбнулся деверь. — А вы и есть археологи? — Мы из исторического кружка, — призналась вторая, но первая с энергией оскорбленной рыбачки прервала ее: — А ваше какое дело? Читали — так не рассаживайтесь тут, нашелся — грабить ценности! Тут она узнала стоявшую чуть поодаль Татьяну и с ходу выдала ей: — Это ты своих «дикарей» привела! Двоечница кривоногая! Королева — мы видели это — хотела ответить только высокомерной улыбкой (все три обвинения были ложью), но кровь взяла своё, руки сами уперлись в бока, и особы, онемев, услыхали, что они чокнутые, малохольные, дурочки ненормальные, что о них рук марать неохота... Алик, спешно вернувшийся в наше время, не без удовольствия слушал, кивая, хороший скандал судачанок. Уже было сказано, что к нам позовут старших братьев и те нам навешают, мало не будет, уже Алешка сдерживал Татьянин кураж, когда до стражей дошло, что мы просим прощения, не будем тут загорать и никого не пустим. Не знаю, кто внушил судакским девчонкам, что черепки и камни с козьей поляны — это дорого и важно, но сражались они так, будто мы ломали их единственную черешню, губили цветник, терзали виноградник. Пока в Суроже вырастают такие существа, европейское живописное первенство ему обеспечено: ни один камень его древностей не лишится жизни. «Полякова Анюта, мы тута!» Такой плакатик Алешка и Таня показали во всех уголках бухты, а в итоге вернулись с незнакомой девушкой в мини-сарафанчике и в больших зеленых очках. Четким замоскворецким наречием незнакомка объяснила, что Анюта, с которой они жили на одной веранде, неделю назад уехала в Алушту и уже прислала свой адрес. Почему уехала? — Так тут же ни фига нет! И с расположением землячки, желающей предостеречь от оплошности, она объяснила, что Судак, в сущности — страшная дыра, тут на крепость раз сходить, а больше смотреть нечего, ей-богу, волком взвоешь. А в Алуште, как пишет Анютка, открыли модерновую корчму, можно посидеть, люди бывают интересные, приятный интерьер. Вообще Крым-то — там, за Алуштой, а тут и кипарисов нет, одно вот море. Татьяна взглянула на москвичку только один раз, внимательно и недружественно. Но та, приятельски кивнув, сделала только первый шаг к морю, а плиссированная юбочка сурожанки уже стала на целую ладонь короче. Что ж, и Воронцовы не считали восточный берег Крымом. В Судаке, Коктебеле, Феодосии проводили лето педагоги, бедные музыканты, художники, здесь жизнь была дешевле. Гостеприимный Максимилиан Волошин любопытно подвел под этот факт теоретическую, так сказать, базу. Помянув старый афоризм — «некрасивая женщина может быть любима только страстно» — и применив его к земле, он с коктебельским патриотизмом утверждал: «К таким некрасивым странам, которые могут быть любимы только страстно, принадлежит восточная часть Крыма — Киммерия». Страсть нынешнего неорганизованного отдыхающего к Киммерии объясняется не так, пожалуй, нехваткой красот, как наличием свободного моря. Море, не отторгнутое санаториями, не застроенное молами, причалами, навесами, бесплатное, чистое синее Черное море Восточного Крыма влечет к себе «дикаря», число которому — легион. «Дикари» — это чудесно. Не такой уж большой срок в жизни человек отваживается спать со звездами перед глазами. Автомобилисты — это аристократы, у двадцатилетнего «Волги» и даже мучащей потребности в ней нет. «Дикарь» даже не турист, в нем тяга к оседлости. Родник, пусть хилый, пяток метров гальки или песка среди скал, какой-нибудь кустарник, чтобы сварить на нем гороховый суп со свининой и компот из зеленых яблок — и возникнут низкие стены из обломков камня, каменная же плита обратится в стол, на длинном шесте будет поднят белый бараний череп, или флаг со скелетом селедки, или просто «веселый Роджер» — и стойбище начало жить. Возвращение в природу. Свежие утра с запахом водорослей, когда полный штиль показывает со скат стайки ставриды, а крабы-цыганки не спешат удирать от пришельца; томные ленивые полудни, когда чувствуешь, что лучи добрались до самой середки костей, и приходишь в себя от жары только в маске и ластах, метрах в пяти под уровнем моря. Ловля надоевшей цикады, зачитанная «Неделя», кинг и покер после обеда — и обидное мытье котелков. Бездумные вечера с гитарой, с мужской хрипотцой под Высоцкого, сигареты «Стюардесс» для девушек, твист на лунном камне и страшная ночная гроза, шторм, от которого потом идет счет дням. Уединения, морские романчики, походы за билетами в поселок, объявления у скрещения троп — «Купите банку топленого масла, роман «Щит и меч» и насос для надувного матраца», прощальный ужин, три копейки в волну — и будь здорова, Таврида, чао, ля мар! Что еще надо?! Надо, чтоб крымского солнца хватило на жизнь. Как Пушкину. Надо увидеть Тавриду. Красота, уверял Грин, красит и тех, кто созерцает ее. Хочешь, нет ли, а вся Киммерия — храм истории и художества. И была таковым до того, как стала великим и шумным стойбищем загорелых. В храме надо вести себя достойно. Их, храмы, строго говоря, нельзя оскорбить невежеством или безразличием. С них — как с гуся вода, унизишь только себя самого. Грех бездуховности не отпускается. На этих берегах, наверное, сотое поколение людей умеет читать, это сотое строем души должно отвечать высоте положения. В умении будить в себе художника одна принадлежность к концу XX века не дает преимуществ. Но для чего, собственно, будить? Что это, обязательно — будить? Было и Алешке одиннадцать лет, и в те времена мы предприняли с ним путешествие в первичном смысле: шествие по пути от Феодосии до Севастополя. С продуктами были перебои, и мы еще дома запаслись консервами. Рюкзаки свисали, как курдюки, края банок с печеночным паштетом вгрызались в позвоночник. Еда в Крыму нашлась, но бросать было жалко, до самого Судака мы тащили эти вериги. С Царского пляжа решили перевалить в долину села Веселого, там у моря заночевать. До того, прощаясь с Судакской крепостью, вдосталь натолковались про сурового Христофоро, тонконогого ловкача-нотариуса Портуфино, одноглазого, чтоб характерней было, кавалерия Микаеле ди Сазели, щеголя и выпивоху, аргузиев, любителей жареной кефали и свежего сыра. Четкая, как легенда, история конца Солдайи усвоена была моим спутником ясно — так ясно, пожалуй, как мы когда-то представляли расположение мускатных кустов. В Новом Свете встретили четырку «дикарей» из Москвы: двух парней, двух девушек. Они слыхали, что за урочищем Рай и Ад есть «совершенно железное место», мы предложили проводить. Но одна из девушек, молчаливая красавица, рассекла ногу и сама не могла идти. Взвалив на себя все имущество, парни наказали подружкам ждать, а сами, тренированные, тягучие, обогнали нас и только кричали с горы, туда ли идут. Одного мы назвали Тягачом, другого, за рост, Паганелем. Алешка тянулся к ним: радость общения, каждый встречный в потенции Алик. К закату мы сухими балками вышли к рощице дубняка, укрытой пригорком от моря. Тут был родник, близко вздыхали волны, место впрямь было «железное». Смыв пот, парни поручили нам к их приходу вскипятить воды для супа и отправились за спутницами. Вскоре смерклось. Костер наш пылал. Мы заморили червячка консервами, все приготовив для варева. Алешка устроил себе из плитняка и полыни логово и прикорнул, изредка оживляя мою фантазию вопросами и понуканиями. Сухой дубняк горел ароматно, иногда на огонь налетала летучая мышь, в балке переговаривались сверчки. Тут и пришел к нам Христофоро ди Негро. Он поднялся из-за пригорка, оборванный и мокрый, минуту постоял, ожидая, потом шагнул на свет. Левая рука его была на перевязи, в правой блестел пистоль. За плечом его мы увидели Микаеле, кавалерия легко было узнать по повязке на глазу. Неслышно явились из-за холма Якобо, Иорихо, Портуфино с чернильницей у пояса (остальные знакомые солдайцы погибли). — Кто вы? — спросил Христофоро по-итальянски. Мы не поняли. — Кристиани? Мусульмани? Это было понятней. — Мы русские, — ответили мы. — Не бойтесь, идите к костру, вот вода, пейте. Христофоро понял: он часто имел дела с гостями-сурожанами, да и в долине жило немало виноградарей-русских. Утолив жажду, генуэзцы устало опустились у костра. Аргузии налегли на консервы, но их строгий комендант к еде не притронулся. — Вы пастухи? Земледельцы? Ограбленные купцы? Или жалкие разбойники, заманывающие жертву на свой огонь? — Консул Христофоро, мы путешественники. Идем в Чембало, к Херсонесу. — Вы знаете мое имя? — Да. Вы ведь единственный честный человек в генуэзской Газарии. — Вы забыли об этих людях, — он взглянул на спутников. — Что турки? Свободно ли море? Говорите правду, от этого зависит жизнь добрых христиан, заступничеством девы Марии спасенных от лап неверных. — Достойный Христофоро, мы скажем правду. Обстоятельства трагичны. Турки перебили в Кафе тьму людей. Даже Скварчиафико не повезло — его доставили в Константинополь и повесили на крюке за подбородок в подвале султанского дворца... — Повторите! — вдруг оживился Микаеле. — За подбородок? Сладостно слышать. Но, тысяча проклятий, разбойники и этого сделать не сумеют как следует! — Не отправишься ли с предложением услуг? — мрачно буркнул Якобо. — Кончайте! — оборвал консул. — Что с Габелой? — На галерах. — Прекрасное назначение, — одобрил нотариус, — но каналья сбежит, клянусь светлой Генуей, и тебе впрямь не мешало б проверить кандалы, Микаеле. — А один из братьев Гуаско, Антонио, спасся. Он через Мингрелию бежал к персам, рассказывает там о гибели Кафы. — Это правда? Вы слышали, аргузии? — Христофоро сверкнул глазами, его истощенное лицо выразило охотничий азарт. — Мы не можем вернуться в Геную, пока один из предателей оскорбляет ступнями землю. — Консул, у меня жена и пятеро малюток, — вздохнул Иорихо. — По счастливому случаю, они не успели приплыть в Солдайю и ждут меня в деревеньке под Генуей. — Еще каких-нибудь семнадцать лет, — тронул Якобо консула за плечо, — и ваш тезка Колумб отправится искать новый путь в Индию. Право, разумней околеть на его каравелле от тухлой воды и червивых сухарей, чем гоняться за этим последышем и оказаться на одной скамье с вельможным гребцом из Кафы. — Бесчестья не примем! — резко оборвал ди Негро. — Мерзавец погибнет от этого пистоля. Добрые пилигримы, где источник? Мы наполним столько бочонков, чтоб хватило пересечь море. О горе, Черкио в руках неверных, на горе Митридат — полумесяц! Курс надо держать к берегам христиан-абхазцев. — Пожалуйста, возьмите у нас свиную тушенку. Эту еду не надо готовить, стоит лишь разрезать кинжалом железо крышки. — Да вознаградит вас Дева Мария. Держите, вам этого хватит на пропитание до Чембало, если не ограбят татары. Консул протянул крупную золотую монету, но она выскользнула и упала в костёр. Тут донесся звук шагов, зашуршал под кедами шифер, мы услышали голоса Тягача и Паганеля. — Э, как там булькает? Жрать — прямо мочи нет. Галка, давай, руководи... Они усадили аварийную красавицу, та быстро достала концентраты. Тягач подбросил дров, оглядел поляну: — Вон в том овражке — «ж», за кустами — «ме», не путать и нигде кроме. Вообще объект годится. Как, Лёль? — Ничего, — ответила красавица. — Только колючее тут всё какое-то. И как тут темнеет быстро, день короткий... — За хлебом ходить далеко, а так — порядок, — одобрила та, что была в шортах. — Кусты рубить придется, больше топить нечем. — Фиг с ними, не зеленая зона. Жрать, люди, жрать, — тараторил Тягач. — Ну, завтра — день здоровья, — потянулся Паганель. — Гори всё синим огнем — пальцем не пошевельну. Они были напористы и деловиты. Молча поели, слили остатки в балку, где «ж», разбили палатку — всё быстро, привычно, не заметив ни взошедшей луны, ни сверчков, ни шума моря. Они открыли эту землю, тут всё было для них: кусты — топить, море — драть мидий, балки — тоже для пользы. Все по правилам — не заставили девушку нести груз, не захламили поляну. И все же я не мог представить, что у гаснущих углей можно заговорить с ними про Сурож, консула, изменника на галере, про тропу от башни к морю и живописца-грека, покрывавшего сырую штукатурку изображениями мучеников. Это было не нужно, не интересно, не в струю. Более того — до феньки, до лампочки, до чего там еще? Они приехали в зону, что не зеленая, и завтра для них начнутся «дни здоровья» с пасовкой на песке, хождениями в рабкооп и дежурствами по костру. Алешка, странное дело, поднялся раньше меня. Умылся, меланхолически поковырял прутом золу вчерашнего костра (не искал ли золото консула?), поглядел на спящих попутчиков и подошел ко мне: — Вставай, а? Пойдем, пока они не поднялись. — Чего это? — Так... Ну их. Идти без консервов было легко. За первым мысом мы заговорили в полный голос. Не ловите, я отлично понимаю, что одиннадцать лет — одно, а двадцать два — совсем иное! — Тогда чего он, если такой понятливый? Чего ему от тех четырех, не знаешь? В Воронцовский дворец ехать, ага? В Никитском саду сниматься? Вызывать тени забытых предков? Растолкуй — туго со временем. Потом весь год в полседьмого — «вставайте, граф, рассвет уже полощется», в метро кимаришь. И каждый гривенник на счету. В Суздаль никак не выберешься, а он с этой своей — Солдайей, или как? Фугани его как следует, ну достал в конец... Вы правы, уважаемый, очереди во дворец полумилорда — жуткий кошмар, а бивни мамонтов в музеях скучны до обмороков. Я к тому, что особенность Киммерии — паренье. Прежде эта сторона славилась станцией планеристов. Восходящие потоки не только возводят в зенит замки из кучевых облаков — они бесшумно возносили парней и девчат Осоавиахима. Но это — к слову. Молодой организм в этих местах вообще способен приходить в то счастливое состояние, когда полет на одних распахнутых руках над бухтами, полынными долинами, старыми башнями становится мыслимым и желанным — только страшновато с непривычки. Отсохни язык у того, кто снова начнет разводить моралите про шорты, открытые купальники и прочее «моральное уродство». Не познавший морской купели хуже и скучнее крещеного в волнах, и дети у первого будут бледными и послушными. Сколько — полмиллиона или около того — принимает на волны в год киммерийская часть Понта? А места хватит на миллион, на два. Но в морской пене родилась Афродита. Она богиня, с ней грубо нельзя. Я к тому, что «дикарь» — это ведь сказано в шутку. Конечно, веселые бактерии броженья должны быть занесены, без них и хороший сок не превратится в вино. Но если любой край — только не закупоривай, не пастеризуй себя — имеет то, что и обыкновенного, не обремененного особыми дарами человека может подтолкнуть к жизни художественной, то воздух Восточного Крыма, испытано, особенно богат животворными дрожжами. Тут столько заново увидано, столько открыто в простых и вечных материях, чередованиях, вещах, столько добротного сделано! Благодарный поклон высоким и желанным гостям, но в Киммерии живали и хозяева. В Старый Крым мы отправились с Таней. IVОн действительно стар, городок Старый Крым, былая столица ханов, но старость его здорова и завидна: почтенный несуетный возраст каменщика, чабана или огородника, морщинистого и жилистого, свежего, со вкусом к бытию и покойной практичностью ума. Грин переселился сюда из Феодосии — потому, нам рассказывали, что здесь была дешевая жизнь. Но к тому ж, хочется догадываться, тут была тишина, люди занимались своими делами — выращивали табак, собирали и сушили сливы, знаменитый «изюм-едик», стригли овец, и некому было интересоваться замкнутым остролицым автором «Алых парусов», которого уже честили за вредный символизм и перестали издавать. Алик давал Алешке на коравы «Блистающий мир» — про человека, который летал. Не на машине, не с помощью крыльев, а просто так, желанием. Татьяна Алешкин пересказ слушала с любопытством, но интересовало ее одно — как именно летал тот Друд? Что вибрация колокольчиков поднимала на воздух лодку, не удивляло: всё же — вибрация! А откуда у того бралась невесомость? Алешка, согласно книге, твердил, что для Друда летать было легко, обычно, а это не удовлетворяло, интерес иссяк. Поросшая спорышем и калачиками улица, где машина — великая редкость. Акации, приземистые шары грецких орехов и заросли чернослива скрывают черепичные крыши. Тишину прерывают только голоса молодых петушков и звон ведер у колонки. Заборы, калитки, подведенные синькой приступки беленых домов — всё выгорело на солнце. И вдруг, сквозь планки ограды, — ярчайшее пятно. — Смотри, Алешка, — пароход! — охнула Татьяна. Перед маленьким, в два окошка на улицу, беленым домом с двускатной черепичной крышей, на травяной клумбе стояла яхта с алыми парусами. Цвет шелка был действительно тот гордый цвет утренней зари, глубокой радости, но саму модель мастер выкрасил не белилами, а сероголубой защитной краской, какой покрывают борта и надстройки военных кораблей. Мы пришли рано: девушка филологического вида с мокрой тряпкой в руках сказала нам, что в музее сейчас производится уборка, нам придется зайти через два часа. Она, видно, гостила здесь, и мы помешали мыть пол. Но тут вышла с полной лейкой седая, как лунь, невысокая прямая женщина и принялась поливать траву вокруг яхты. Судакский кодекс поведения («бабушка, давайте помогу») позволил Тане узнать, что модель сделали два старых севастопольских матроса, сами же и привезли. Моряки любят Грина. А Таня читала «Алые паруса»? — Ага, — кивнула судачанка и заалела. — Понравилось или нет? — с интересом спросила старушка. — Ага, — торопливо кивнула Таня. — А она плавает, вы пускали?.. Перед нами была хозяйка знаменитой феерии — автор преподнес и посвятил «Алые паруса» Нине Николаевне Грин. У нее замечательно четкая, ленинградская, даже петербуржская речь, полвека жизни в Крыму нисколько не сказались на выговоре. Сидя в тени молодого ореха рядом с плетеным креслом хозяйки, мы узнали, что этот дом Нина Николаевна купила у двух монашек, вернее — выменяла на золотой браслет с часиками, свадебный подарок Александра Степановича. — Боялась, что узнает, рассердится, поэтому долго держала в секрете. Но всё обошлось. «Вот допишу «Недотрогу» — будут и часы, и браслет. Место тут очень здоровое, ведь пятьсот метров над уровнем моря. Я уверился, что «беседы» о Грине, обкатанной повторением лекции «о жизни и творчестве», у Нины Николаевны вовсе нет. Единственное, что старалась она внушить, — это что Александр Степанович был обыкновенным человеком, то есть никаким не фантазером, не чудаком, а старательным работником, знавшим, что он должен делать. Был резковат, прям в симпатиях и антипатиях, но нелюдимым не был. Пока с ними жила мать Нины Николаевны, искусная хозяйка, и водились деньги, нередко собирались гости, особенно любил их стол гурман Волошин. Был злым курильщиком, любил сухое вино, но мог обходиться столь малым, что нужда не слишком замечалась. Был отличным ходоком, они вдвоем исходили всю долину речки Чурук-Су, все окрестные горы. Но чудачества, благоглупости не от мира сего? Нет, их за ним не водилось. Он был писатель. От нужды старался отбиться работой, а не луком и стрелами. Разговор же получил такое направление вот почему. Небылицы о Грине, пусть и красивые, сочиняют сами писатели. Причем большие и умные, любившие его книги. У Константина Георгиевича Паустовского человек узнает, что Грин сделал себе лук и, чтоб прокормиться, охотился в окрестностях Старого Крыма. — Луки соседской детворе, верно, делал, но самому идти в горы... Солдат, матрос Грин — и с луком? Смешно, не правда ли? Юрий Карлович Олеша в превосходной книге «Ни дня без строчки» зачем-то написал, будто Грин украсил свою комнату деревянной статуей, которая подпирает бушприт парусника. Или обломком статуи, головой — во всяком случае: «На стену, где у других висят фотографии, этот человек плеснул морем!» — Никаких статуй у нас не бывало, висят и висели именно фотографии. Но человек Олеша был добрый, я постфактум писала в Москву, что не сержусь... Видимо, домыслы эти — попытки объяснить читателю, помочь ему понять, как всё-таки «человек летает». А объяснять, пожалуй, и трудно, и незачем. Герой Грина, «прямой, как пламя свечи», настолько сильно чувствует и хочет, что для него совершенно естественно влететь осенней ночью в окно маяка, перебежать по волнам залив, одеть в шелк корабль. Это обычные, рождаемые его натурой движения. Писатель считает парение духа нормой, остальные состояния — аномалией, и весь сказ, и никаких снижений! Необычное скорее в действительном, непридуманном. Грин уезжает от моря, от Зурбаганов и Лиссов, в предгорья, в степь... Обитает в таком же жилье, как и судакские мои тетки, солдатские вдовы, чинившие крыши после каждого дождя; нуждается в куске хлеба, в керосине для лампы и в вязанке дров, но работает с твердой верой, что проповедь «делать так называемые чудеса своими руками» будет услышана, что его духовная мера будет принята. Испытав за жизнь столько унижений, насилия, такие поругания, что хватило бы на изуродовать десятерых, он обогащает русскую литературу не знакомым ей мастерством раскованной мечты — это что, обычно? Необычно, несопоставимо с популярностью Грина, что жена его, женщина на восьмом десятке, живёт по-прежнему трудно, на пенсию в 21 рубль. (По правилам издательств, наследникам выплачивается некоторая часть гонорара только в течение пятнадцати лет после смерти писателя, а Грина стали печатать громадными тиражами спустя четверть века после его кончины). Она сама содержит музей, точней — смотрит за домиком. Ведь музея никакого нет, в путеводителях даже дом не обозначен, просто заходят туристы, группки школьников, проезжие, услыхавшие, что тут-то и жил сочинитель странно-волнующих книг. Необычно и то, как горда, кипарисно-пряма и вместе неподдельно приветлива и любезна эта женщина. — Вы ходите, как совсем молодая. Простодушный комплимент Алика Нина Николаевна приняла с улыбкой и с тем же объяснением: — Это место лежит в пятистах метрах над уровнем моря. Гляньте вниз — страшно? А на здоровье сказывается прекрасно. Тут деверь и спросил про стихи о небесной глине — не знает ли их Нина Николаевна? — Да-да. Это Георгий Шенгели. У меня стихи эти были еще недавно. Лежали на столике у Александра Степановича. Но их... (она со вкусом выговорила) сперли! Алик раздосадован но крякнул, но вслух укорять за потерю бдительности не стал. Мы сказали, что идем отсюда на могилу Александра Степановича. — Тогда повремените, я с вами пошлю цветов. Нина Николаевна взяла ножницы, прошла в садик и вскоре вернулась с букетом великолепных, нежно-оранжевых, впрямь рассветного цвета роз. — Знаете, какой это сорт? «Глория Деи», «Божья слава». Верно, в монастыре каком-нибудь вывели... Дорогой мы, как водится, обменивались впечатлениями. Алешка — правда, с опаской, чтоб не обрезали — сказал: — А память Нину Николаевну точно подводит. Три раза сказала про пятьсот метров над уровнем моря, я считал... Поймет ли когда-нибудь сам, что слова старой женщины можно бы понимать и как совет, как повторенную просьбу жить высоко, что так даже и правильнее понимать, если говорит владелица «Алых парусов»? — А ты, мамзель, зачем набрехала, что читала? — без обиняков спросил Таню деверь. — А я кино видела, — вывернулась мамзель и, словно ее прервали, зачастила: — Фу-фу, да у них тут ничего нету, ни магазинов, ни базара, ничего, хуже, чем в Судаке, у нас хоть пятиэтажные строятся... Кладбище тоже было выгоревшее и сероватое от полыни, «серебряной» краски оград и запыленных листьев сирени. На сухом этом взгорье деревья, видно, и не слишком старались сажать. И снова изящная необычность: над могилой Грина рдело дерево алычи. Жизнь диковатой родственницы слив была, видать, нелегка — листья рано закраснели, зажелтели, кое-где пробился фиолетовый даже оттенок, кора ствола была в салатовом лишайнике. И всё же крона оставалась бы зеленой, если бы не такой урожай ягод — не красных, а именно алых, облепивших все ветви. И что дерево было не редкостное и не садовое, а вроде бы чуть лесное и очень неприхотливое (другому бы тут не выжить), что солнце не обесцвечивало, а пестрило и красило его, что плоды были кислы и утоляли жажду — всё это было так точно, верно, что лучше не выдумать. Ягоды нижних ветвей были ощипаны, но не все, а с какой-то деликатностью, а над беломраморным обелиском свисал повязанный на ветку красный галстук. Это такой обычай: оставлять алыче матросские воротники и форменные пионерские повязки... Мы согрешили: оставили одну розу, едва распустившуюся и ярче других окрашенную. Для могилы Волошина. Меж ним и Грином, как говорила Нина Николаевна, «было тепло», и мы подумали, что это ничего: привезти в Коктебель хорошую розу от Грина. Через полчаса в голубом тумане показались купола прибрежных дач, «белая басина» — водонапорная башня, тополя, черепичные крыши, аквамариновая полоса моря — и я, как в судакские годы, почуял холодок волнения: мы подъезжали к Городу. VВ Феодосийскую бухту вошли военные корабли. Их было много, и залив перестал казаться громадным. Были они одного типа, но какие — сказать не умею, только очень современные, стремительных линий, без каменной грузности линкоров, все серо-голубые, хотя стояли в разном положении к солнцу: блеск моря лишал их, наверно, теней. Это было как праздник: легкие барашки от бриза, рыжий берег, густая дымка над Феодосией и такие красивые корабли. Алешка был восхищен полностью, до нежелания говорить, до грубого «отстаньте». Не барашками, пропади они, — настоящими военными судами. (В Эрмитаже в свое время самыми интересными оказались рыцарские доспехи, в Царскосельском дворце — сабли на стенах. Корабли не возьмешь рукой, но манит опять же военная суть. Нам прививку в этом смысле устроила война. Несколько крепких бомбежек или обстрелов, когда вспоминаются бабкины ночные молитвы, запах гниения в госпитале, оторванная ладонь у младшего брата, игравшего с запалом — любая военная вещь теряет манящую тайну. Исчезает романтическая притягательность. Наелись по горло. В войну нам не игралось.) С портового мола, где мы были ближе всего к кораблям, пришлось спешно перебраться на холм за картинной галереей, потому что армада стала сниматься с якорей. Нужно было возвышение, чтоб заметить все маневры, бурление взвихренной винтами воды, перестройку в кильватерную колонну. Разворачивались корабли свободно, брали с места легко и пружинисто, ощущалась неограниченная сила. Чайки, угадав особое естество серо-голубых гостей, не увязались следом, а только вывели их из бухты. Корабли, мы поняли, и пришли-то в порт лишь затем, чтоб напомнить нам о военном флоте, о штормах, об Айвазовском. И мы послушно сбежали к парапету набережной, к тополям, в тени которых сидел и глядел на море (в халате, с палитрой и кистью) живописец главного штаба российского флота. «Феодосия — Айвазовскому». Насколько знаю, это единственный в Союзе памятник с подобным посвящением: город выступает как единое лицо, как полис. Впрямь поразительная судьба. Сын небогатого купца-армянина («айвас» — слуга-армянин у мусульман) заботами феодосийского градоначальника определен в гимназию и со стипендией Николая Первого — в Академию художеств. Слава быстрая, блистающая, пенная, признание Европой, десятки выставок, орден Почётного легиона и путешествия с царём, моря, заливы, острова; фантастическая плодовитость, теория о недопустимости писания с натуры; умение держать в памяти, как ведет себя гребень волны, как пучина упрямится лучам, как мерцает море в полнолуние, а в итоге — «известный маринист». Не великий художник, а маринист — известный, виднейший, прославленный... То есть как бы не великий полководец просто, а знаменитый артиллерист, кавалерист или мастер водить пехоту. Романтик подлинный, любовь к морю страстная, да что там — открытие моря! Но его бури никому не приходит в голову принять за символ. Образ бушующего моря очень популярен, на сходках звучит «Пловец», а «Песня о буревестнике» лишь по-новому повторяет привычное. А «Девятый вал» — это ведь разгул неукротимых сил, не так ли? Не так. Стихия, при всём видимом своеволии, удержится в рамках: плывущие на мачтах спасутся, ветер не совершит непредвиденного, шторм сам тяготеет к штилю. Тут ничего не попишешь: мировоззрение. Минули десятилетия, гремят передвижники, Россия узнает себя в «Бурлаках» и «Утре стрелецкой казни», а былой стипендиат благодетеля с оловянным взглядом всё повторяет себя. Он написал Чесменский бой, но не мог бы написать Цусиму. У него есть севастопольский матрос, пришедший помянуть своих на Малахов курган, но не могли возникнуть моряки «Очакова» и «Потемкина». Художник, не забывающий в автопортретах ни одной звезды, кажется, неиссякаем — шесть тысяч картин — подумать только! А столичная критика всё-таки весьма умеренна в оценках. Ну и бог с ними, столичными, он счастлив в своей Феодосии. Город насыщен его известностью, чуть ли не в каждом доме — картина с его подписью, он — добр, щедр, заботлив. Провел из своего имения Субаш воду (Феодосия спокон веков жаждет), заранее завещал городу галерею со множеством работ, учит живописи одаренных мальчиков. Правда, с учениками не клеится. Грек-чабаненок Куинджи очень недолго копирует морские виды, сбегает. Богаевский, отправленный в Академию, срезался на экзаменах, и только заступничеством того же Куинджи принят, чтоб больше никогда маринистом не бывать. Что удалось — это создать художественную атмосферу. Город полюбил живопись. Ведь всё так — повторения, благонамеренность, эффекты, но вдруг сквозь воспитание Академии, сквозь самоцензуру прорвется недюжинный талант — и рождается великолепная импровизация «Среди волн». Громадное полотно, созданное уже преклонных лет человеком, — как прорубь в стене: и пучина подлинная, бездонная, едва на сажень только пронизанная солнцем, и живая, сбегающая пленка пены, и ветер соленый, неукротимый, ветер над водной планетой... Только вода, ничего больше, но уже не окантованное картинными скалами, оживленное кораблями море, а грозный Океан врывается в удобный, устроенный дом, свистит и грохочет — и не нужны звезды, чтоб признать живописца могучим, прощаешь ему и убогую помпезность «Екатерины Великой в Феодосии», и нынешнюю симпатию чайных к «Девятому валу». Для нас галерея была чудом света. Сколько раз ни посылали тебя в Город, столько раз и заходил сюда. Тут была стеклянная крыша, тут висели красивые картины — красивые все до одной, и если «Ливень в Судаке» ты отличал по понятным причинам, то и Наполеон на розовой скале, и пышный выезд Нептуна нравились нисколько не меньше. Видел Латри, Лагорио. И просто любопытно, что за все хождения не зацепилось в памяти это имя — Богаевский, Константин Федорович Богаевский. «Он родился среди камней древней Феодосии, стертых, как их имена; бродил в детстве по ее размытым холмам и могильникам; кенегезские степи приучили его взгляд разбирать созвездия и наблюдать клубящиеся облака; зубцы коктебельских гор на горизонте были источником его романтизма... В годы детства Богаевского Феодосия была похожа на приморский городок южной Италии...» Так уже в советское время писал о своем учителе и разом ученике Максимилиан Волошин. И еще он писал: «Караимские и татарские кварталы Феодосии, глинобитные постройки с плоскими крышами, монументальные каменные ворота и такие же дома с глухими арками дают ему материал для постройки фантастических городов... Он начинает постигать гармонию мировых смен и равновесий. Он становится творцом и свидетелем космических и земных трагедий и идиллий...» Другие искусствоведы в советские же годы называли Богаевского, творца «героического» пейзажа, одним из крупнейших русских художников. Писалось: «Тот, кто полюбил эти места, не может не полюбить Богаевского. А тот, кто полюбил Богаевского, — для того Киммерия сделалась второй родиной». Входишь в его зал — и вдруг точно легкий удар током: настоящее! Всё будто знакомо тебе и словно впервые увидано. Башни Солдайи — неужто они так громадны и грозны? Бухта Коктебеля, фронт гор за Меганомом, панорама Феодосии — всё словно собрано из тех же частей, но иначе. Ну это же Богоданная, факт! А странное какое освещение — словно белой ночью, солнца нет, а всё зримо. Не во сне ли он увидел город таким безлюдным, без знака времени года, без знаков эпохи? Делателя нет, увидено сделанное. Люди-то где — или в его, живописца, время человека Город лишился вовсе? Или вот — «Тавроскифия»: синие горы... Нет, не горы, а соединение гор, крепостей, пиков, башен, не сразу различишь, где деяние природы, где — рук. Вечны мощные гребни прибрежья, неразрушимы и создания людей. Человек — соперник изначального созидания. Верней, до людей земли не было — вот мысль! И вот, словно на фундаменте тысячелетних кладок, вырастает светлый монолит — Днепрогэс... Лес бакинских нефтяных вышек — он красив, как и лес настоящий, дарящий радость. Живописец-философ, он пробился сквозь условную фантастику, сквозь декоративность, понял и принял пафос первых пятилеток, вдохнул воздух преображающего деяния, и пейзаж его стал героическим без всяких кавычек. Из всех заслуженных деятелей искусств РСФСР Богаевский, наверно, незаслуженней всех забыт. Он и погиб в родном городе — в оккупации, от советской бомбы. В Третьяковской галерее немало его вещей, но в экспозициях — только одна, не из лучших. Неужто только одна? (Спросил в Третьяковке сотрудницу из экскурсионного бюро. Та стала звонить по телефону: «Дайте вторую половину девятнадцатого века... Марья Антоновна, у вас Богаевский?. Хорошо. Алло, дайте начало двадцатого века... Сонечка, тут Богаевского спрашивают». Это было смешно: потерялся художник. Выставлена, действительно, одна работа.) Алик тянет за рукав тихо: — Пошли к «Атомной войне». Так деверь называет картину «Облако». Тревожное, сжимающее сердце видение: над неизвестным, зримым лишь в контурах, но прекрасным городом — ужасающее завихрение. Тонкую, но такую дорогую пленку жизни грозит прорвать дьявольская сила. Библейское происшествие с Гоморрой? Прозрение — водородный взрыв? Или предчувствие близкой войны, в которой он, мастер, погибнет, а милая ему Киммерия испытает страшные разрушения? Где ветер, чтоб раздуть смерч? Надо, надо раздуть! — Это и есть Богаевский? — разочарованно спрашивает Алешка. — Ты же говорил — «историческое»... — Говорил. — Я думал — в шлемах, в башнях, у пушек... — Шлем хоть я тебе сделаю, — говорит Алик, — а ты скажи, как он до атомного гриба додумался? Ведь погиб-то в сорок третьем. — Алик, точно сделаешь? С султаном? — С падишахом. Раз полный билет взяли, надо шурупить, а не паркет натирать. Добавить к моралите нечего. Но я вдруг замечаю... — Татьяна, а где роза? Роза Грина исчезла, мамзель в растерянности. На пирсе еще была? Да. А когда с мороженщиком кокетничала? Не кокетничала. А у Доковой башни, у греческих львов, на бульваре? Но в галерее уже не было? Устраиваем персональное дело. Не кается: — Сдалась кому-то ваша завялая роза! Стой, а ведь и верно! Волошину положено носить камни, разноцветные камни Коктебеля, а не цветы, как же мы забыли. Значит, вопрос снимается. Роза не потеряна, а подарена. Феодосии. Старый жаждущий город, пахнущий полынью и пылью мостовых, город иссякших фонтанов и очередей у колонок, ты доживаешь последние дни. Скоро ты исчезнешь. Уже на северной окраине видны шеи экскаваторов, к тебе подошел Северо-Крымский канал, и на днепровскую воду земля ответит зеленым взрывом. На твоих холмах повиснут сады, в кронах чинар, тополей, карата-чей потонет мозаика твоих крыш, скроются башни Климента и Криско; санатории обегут дугу залива, и возникнет здесь шумный, тенистый, до блеска промытый курорт, проходящие стальные фрегаты будут заполнять свои трюмы целыми озерами мягкой украинской воды. А старая Феодосия исчезнет. И никто больше не увидит ее так, всю разом, не вздохнет жара ее камней, дымка летних кухонь, духа полыни, никто не узнает в ней городов Богаевского и гриновского Зурбагана. Прими в знак прощания розу, старая Кафа. VIОн избирал себе место долго. Хороший ходок, художник, он исходил и запечатлел в акварелях, перекроив в памяти, каждый уголок Коктебельской долины. Завещал для себя этот холм. Тот достаточно высок, чтоб видеть разом и готические зубцы Карадага, и планерные плато во глубине котловины, и меняющий цвет мыс Хамелеон, и море километров на двадцать вглубь, и дом, дом Волошина на самом берегу, этакий сухопутный корабль с палубой вместо крыши. Могила обложена крупной галькой, верхний слой — почти сплошь из дареных камней: одесситы, челябинцы, харьковчане, кто-то из Гурьева, москвичи, снова москвичи. Мы камня не принесли: сильные штормы почти полностью унесли в море гальку пляжа, и теперь колонны самосвалов возят балласт, надо было ждать, пока море обточит мергель и щебенку. Лет пять, наверно, ждать. Наш учитель Ефим Францевич Карпович, судакский метеоролог, художник и краевед, читавший нам географию, имел обыкновение говорить: — Ты что зарос, как Волошин? Или: — Вы что это — купаться в апреле? Какие Волошины нашлись. Мы усвоили: Волошин — чудак. Теперь, читая воспоминания (а их много, уж на целую книгу), убеждаюсь, что и для современников он был чудаком. «Он был грузный мужчина с огромной головой, покрытой буйными кудрями, которые придерживались ремешком или венком из полыни; ходил в длинном древнегреческом хитоне с голыми икрами и сандалиями на ногах. Вокруг него группировалась талантливая местная и приезжая молодежь. Сами они называли себя «обормотами» и яро враждовали с благонравной частью населения...» (В.В. Вересаев). «Нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека... Усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное и «очаровательное», хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре». (И.А. Бунин). «Испанский гранд в пенсне русского земского врача с головой древнего грека, с голыми коричневыми икрами бакинского грузчика...» (Эм. Миндлин). И только после такого вступления обычно заходит речь о Волошине-поэте. Он считался одним из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России — парнасцем, символистом, эстетом. Ему было достаточно назваться, сказать своё имя — все двери открывались. Видимо, он был меньшим поэтом, чем сам себе казался, и фраза, написанная им о другом — о том, «у кого мысли рождаются из слов» — может быть отнесена и к нему самому. Манерность, стремление к красивостям, плен у словес — не верится, что писано дюжим мужчиной, не декадентской дамой: Скрыты горы синью пятен и линий — Щегольство формой, хождение по ступенькам красивых слов: Рдяны краски, Названия циклов апокрифичны, изысканны — «Звезда Полынь», «Армагеддон»... Это к тому, что стихи Волошина давно уже стали библиографической редкостью, чем-то вроде заповедного, отсюда — легенда, любопытство, хотя забвение очень многого из написанного им закономерно и справедливо. Умный и недобрый Бунин, на склоне жизни не жалевший желчи, тотчас разглядел за внешностью «крепостного мужика, Приапа, кашалота» натуру порядком самовлюбленную, в чем-то искусственную и поиронизировал над тем, что потому было ему известно, что самому было присуще: и «сделанная внешность», и «сладострастие аппетита», и постоянное видение себя со стороны. Только дружественности, тяги к расположению людей, гостеприимства, той «любезности» не было в Бунине, и этого он Волошину не простил. И еще не простил «слишком литературного воспевания» происходящего в революционные годы, иначе — попытки разобраться во всем, нежелания стать в лагерь белых — или в красный строй. Бунин, благославлявший деникинские карательные полки грамотными отточенными стихами, не мог оправдать поведения Волошина. «Максимилиану Александровичу Волошину! С доброй памятью о Вас шлю Вам эту книгу, где показаны мы, которым в 1918—20 гг. Вы оказали смелую помощь в своем Коктебеле, не боясь белых. Вс. Вишневский». Экземпляр «Первой Конной», хранящийся в коктебельской библиотеке с этой авторской надписью, уже аттестует. В девятнадцатом году Волошин живет, как он сам заявляет в письме, «с репутацией большевика». В Народном университете Феодосии он читает красноармейцам, штурмовавшим Перекоп, лекции о Леонардо и Микеланджело. Советская власть сохранила за ним дачу — уже ставшую фактически домом отдыха писателей. Но не к чему задним числом выправлять былое. Волошин старался стать «над схваткой», гордился тем, что в доме его спасались «и красный вождь, и белый офицер», изображать его отказ от эмиграции актом политического прозрения нельзя. Он остался в Коктебеле, потому что здесь была вся его жизнь. А оставшись, волею обстоятельств принужден был многое обдумать. Работал он много, возмужал как поэт, стал строже, проще, мудрее. Его стихи советских лет о Крыме — самое крепкое из созданного им. Это гимны маленькому уголку планеты, где человек становится свидетелем течения цивилизации. Своим Коктебелем он готов угощать весь Союз: Дверь отперта. Переступи порог. Его пейзажная лирика прямо-таки научно точна, акварели же его заказывались геологическими партиями: специалисты получали от его работ более точное представление о геологии района, чем от фотографий. Чаще же поэт и художник выступали «в соавторстве»: под акварелью появлялась стихотворная надпись: Травою жесткою, пахучей и седой Стихи — сами по себе акварель. Мне довелось видеть его этюд, о котором всё говорит подпись — Остатки генуэзских крепостей Или — лунный пейзаж: «Медный бубен ночи». «Художественное краеведение» — можно было б так сказать о большом цикле его работ, если б не нагнетало скуки второе слово, изрядно траченное молью, родящее в сознании чучела, окаменелости и пустынность районных музеев. Вдохновение гида, водителя глазастых, удивляющихся, верящих людей — есть такое или нет? Во всяком случае, Волошин им обладал. Фундаментально образованный, читавший на девяти, кажется, языках, знаток живописи и архитектуры, он умел заразить Киммерией; свой Карадаг, фантастические его бухты, каменные чащи, россыпи сердоликов он показывал Горькому и Шаляпину, Врубелю и Эренбургу, десяткам молодых литераторов, художников, приезжавших в «странноприимный дом», он готов и теперь — томиком стихов, альбомом репродукций — вести по тропам потухшего вулкана веселые караваны «дикарей». Нет такого томика, не приобрести и открытки. Заботами вдовы Волошина Марии Степановны, ленинградского литературоведа В.А. Мануйлова наследство поэта сохранено, содержится в порядке. Рукописи ждут читателя. Можно административным порядком запрещать порчу леса на приморских склонах Карадага, можно совестить туристов — не портили б вы, милые, этакое чудо горами ржавых консервных банок, надписями, топориками своими, а можно и поставить у дороги на спящий вулкан плиту с надписью: И над живыми зеркалами Это ведь правда, Карадаг — Ника Самофракийская среди гор Кавказа и Крыма, от Батума до Дуная нет ничего подобного. И посмотреть бы, какой способ охранить чудо будет плодотворней... Свой дом Волошин завещал Союзу писателей. За десятилетия рядом с дачей-кораблем вырос целый поселок — знаменитый «Дом творчества», но по-прежнему самым интересным остается приют коктебельского эрудита. Мы увидели здесь огромный бюст древнеегипетской царицы Таиах — Волошин привез некогда этот слепок из Парижа, редкостную морскую раковину — она, по преданию, служила Врубелю «цветовым камертоном» во время работы над «Царевной Лебедью»; громадное собрание книг античных и русских, французских и итальянских авторов; стол Загоскина, бюро Алексея Толстого, картины знаменитых мастеров... Как уцелела эта обитель муз в годы оккупации? Мария Степановна Волошина (у нее стало неладно с глазами, от солнца режет) проходит затененной комнатой и упирается руками в косяк двери: — Вот так стала в дверях, когда они пришли, и сказала: «Расстреляйте, тогда переступите!» Именно так. Помялись, выругались и ушли. Тут ведь стояли румыны... А что это за брус на стене — окован изъеденной временем бронзой, да и сам какой-то необычно, удивительно старый? — Часть форштевня древнего корабля, — объяснила Мария Степановна. — Максимилиан Александрович очень дорожил этой находкой. Вы знаете, что вдоль этих берегов проходили корабли Одиссея? — Вот ведь вечно напутают, — укоризненно говорил деверь на лестнице, имея в виду, надо думать, весь пишущий люд. VIIНа прощанье устраиваем себе изысканное удовольствие: отправляемся купаться в Капсельскую бухту, за старинную винодельню Архедерессе, под самый мыс Меганом, где и теперь ни души, а в спокойных лагунах, вымытых в плитах песчаника, видать каждый день стебель водорослей. Татьяна придумала игру: — Вы будете подонки, а я на вас буду стоять. Кто дольше под водой пройдет, тот — гордец. Звание гордеца оспаривают Алешка и деверь. Силы неравные: Алик с сияющей нереидой на плечах почти пересекает лагунку. Но Таня медлит выносить приговор, еще и еще раз проверяет себя. Веселая их суета тоже прозрачна — ни шума волны, ни крика чайки, предзакатный покой. Вылажу обсохнуть и оглядеться. «Киммерии печальная область...» Да нет же, Гомер, — веселая! Вот обычная тощища при расставании не подкатила, и в горле почти не першит. Вид сине-рыжих гор, громада скалистого мыса, степная тишь Капсели дают ощущение счастья. Такие моменты редки, но не они ли делают жизнь золотоносной породой? Привет, Меганом, ты больше похож на медведя, чем засмотренный Аю-Даг, его греки звали не Медведем, а Бараньим Лбом! Твои синие обвалы — это трубы органа, выходящие из моря, и так славно глядеть на твою полинялую бурую шкуру с домиками — кубиками рафинада — на самом хребте. На обрывах твоих живут вороны, они древние, мезозойские, и забавы у них отчаянные: падать со скалы в обрыв над морем — и с шумом в вороненых перьях выходить из пике, похахатывая каменным клекотом. Привет, Георгий, гора с родником у вершины, это на твоей лысой макушке есть камень, на котором в дни детства мы читали таинственное слово ЧИВОПРАК! Ефим Францевич Карпович объяснил, что это пожелание долине удачи на затерянном аланском языке, и мы верили, пока кто-то не прочел слово наоборот. Каково было позировать Богаевскому для героических пейзажей, гора Земледелец? Привет вам, ящерицы, привет, крабы-цыганки со следами подковы в серединках панцирей, привет, сухокрылые кузнечики в кустах змеиной травы — она названа так мамами, чтоб мы не ели головок с семенами. Привет, полынь-трава, заставляющая плакать ханов, привет, плети каперсов с зелеными снаружи и алыми внутри бомбочками плодов, привет, тамариск с красноватыми теплокровными прутьями и пористой мягкой хвоей, пахнущей зноем и ежевикой. Привет тихим лагунам, творящим жизнь! Вон новый восход — двое голенастых, держа в генах опыт всех земных эр, плещутся в прозрачном тепле. Привет, белые барашки на синем выходе из бухты и охряный ялик на волнах у Алчака! Привет, Крым, сухой и крепкий, колючий, каменистый, с почвой, насыщенной ароматами и терпкостью, где всё, что умудряется вырасти, исполнено цепкости, вкуса, упругости. Привет, земля непрерываемой жизни, где меч и огонь никогда не могли одолеть заступа и мастерка! Меня званием гостя, пожалуйста, не огорчай, но тех, длинноногих, сегодняшних, встреть ласково, как ты умеешь. Облучи! Не оскорбляйся, встретив непочтительность или равнодушие — ведь среди них, инкогнито, Пушкины. О чем я думаю — чтоб устроить тут род школы техминимума? Ой, нет. О новых очередях в галереи, о том, чтоб колоннами организованных был вытоптан весь спорыш на заветной улице? Чтоб простая могила на холме превратилась в холм сердоликов? Тысячу раз — нет. Я не предполагаю — я просто уверен, что под отвесами Карадага и Судакской крепости, в глубоких бухтах Нового Света и Коктебеля будут видеть белый трехмачтовый корабль с алыми парусами, он будет торжественно входить в Феодосийский залив и бросать якорь невдалеке от пляжа, чтоб ребятня подплывала и отдыхала на звеньях его цепи. Ночью на палубе будут устраивать концерты. И это будет не ряженье, не аттракцион, а только прогулочный корабль для счастливых людей, плавучий памятник писателю. Это ведь гораздо реальнее, чем возрождение Соловков и Суздаля, а руки дошли и до них. Еще я отлично представляю себе, что в башнях Карантина, в Консульском замке Судака устраивают выставки молодых художников (так оживляет древние бастионы Варшава) — прямо в русле людской реки, текущей по Киммерии с весны до октября. Выставиться может и студент Института имени Репина, и просто любитель-крымчак, места и зрителей хватит. ...А каждый поэт, рассказчик, проживающий путевочный срок у обители Волошина, отдает один вечер чтению своих вещей перед гостями Коктебеля, пешими и машинными. Не беда, если на объявленную встречу приходят только двое, чтец и слушатель: хорошим строкам этого вполне достаточно. Но вечера обязательны, как закаты и восходы, они — обычай, правило, ритуал. Не напрягая фантазии вижу: в цоколи новых домов строители закладывают плиты древних построек, а на бульварах, набережных, как сейчас античные львы пред домом мариниста, поставлены подлинные амфоры, чем-то интересные камни — это создаст впечатление, здесь можно учиться у Грузии. Ну и, конечно, колоритная корчма «Сурож» (а может — «Чурило»?), где аппетитный кулеш или уха варятся в котлах, на костре, а питьё подают в братинах, и «Генуэзская траттория», тут угощают спагетти, красным вином и острым мясом... Уверенность, что всё это — раньше или позже — будет сделано и устроено, идет от того, что в местах иных нечто подобное уже отлажено, организовано, служит. А раньше или позже — этим оценятся выдумка, серьезность и энергия людей разных возрастов, руководящих освоением «курортной целины» (да, так говорится) Восточного Крыма. Только как забывать: все затеи, даже самые тонкие, мастерски исполненные, — лишь помощь настроиться. Уж если плавать всякий учится сам, то чувствовать землю — и подавно. Паруса алеют тайно, отдельно от каждого, в редкие мгновенья свободного и счастливого паренья. Зато их шелк не выгорает. Достаточно раз появиться им перед тобою, и долгие, долгие годы сможешь усилием сердца вызвать страну, где горы по-небесному сини и кажутся комьями глины со стола изначальных скульпторов, где море цветет парусами. Ноябрь 1968 г.
|
Столица: Симферополь
Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта
Территория: 26,2 тыс. км2
Население: 1 977 000 (2005)
Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта
Территория: 26,2 тыс. км2
Население: 1 977 000 (2005)