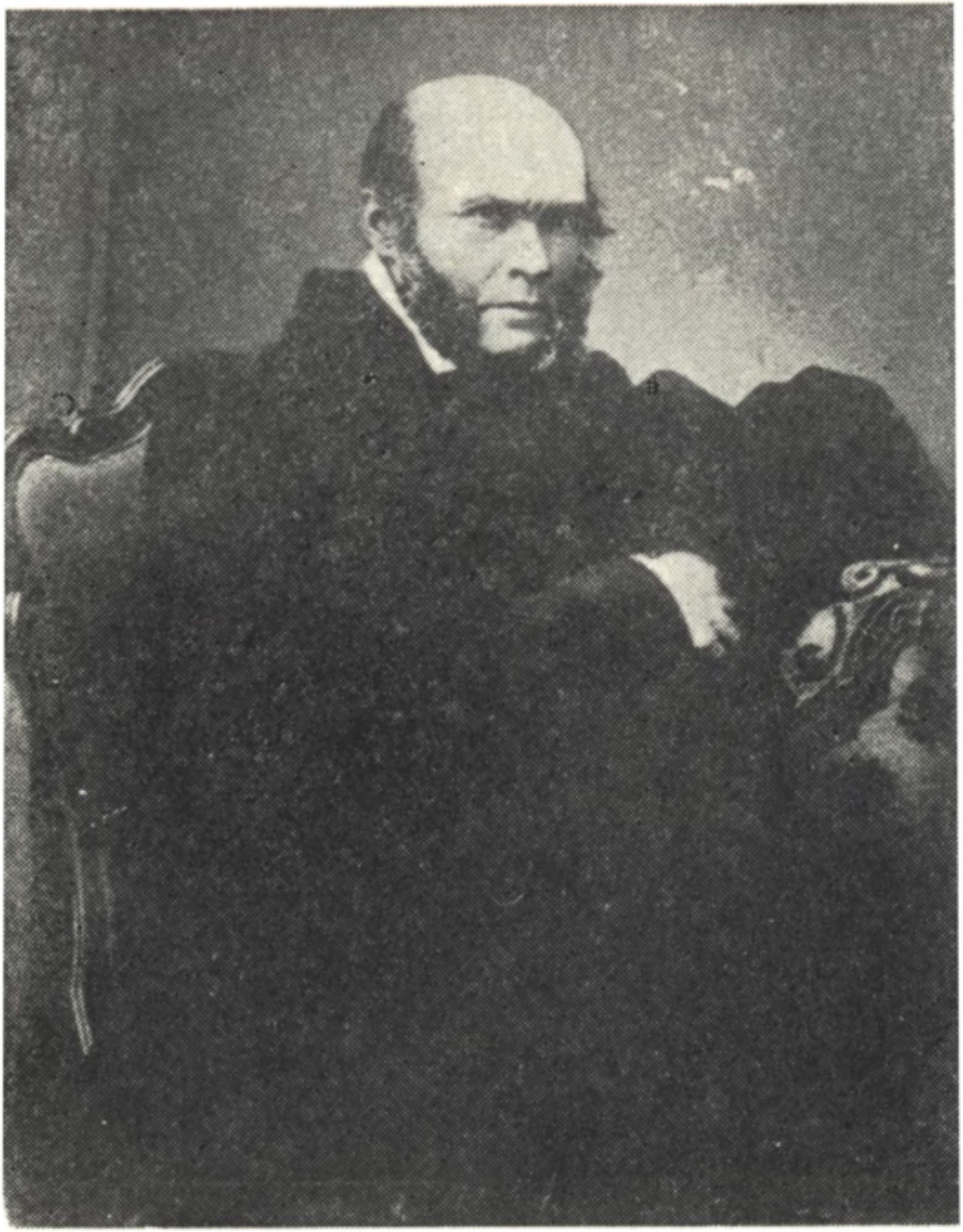|
Путеводитель по Крыму
Группа ВКонтакте:
Интересные факты о Крыме:
В Балаклаве проводят экскурсии по убежищу подводных лодок. Секретный подземный комплекс мог вместить до девяти подводных лодок и трех тысяч человек, обеспечить условия для автономной работы в течение 30 дней и выдержать прямое попадание заряда в 5-7 раз мощнее атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму. На правах рекламы: • Продам китайский чай в самаре paradizzz.ru. |
Главная страница » Библиотека » «История Города-героя Севастополя»
4. Героическая защита Севастополя зимой 1854/55 г.Приближалась зима... И союзники, и русские не собирались после Инкермана вновь померяться силами в ближайшем будущем. «В Севастополе эти дни тихо и спокойно; купцы отворили магазины, приехали сюда некоторые жены флотских и армейских офицеров. А солдатских жен сколько приходит! Увидятся с мужьями и опять назад идут. Меня трогает эта привязанность в простолюдинах, — ведь бог знает, откуда тащатся пешком», — так писал севастопольский офицер спустя две недели с лишком после Инкермана1. Дух среди матросов не падал, хотя об их одежде на зиму никто в интендантстве вовремя не позаботился, а погода стояла на редкость для Крыма холодная. «Замечено, что некоторые французские войска уже ходят в полушубках, а между тем у наших молодцов ни у кого нет. Погода же стоит ненастная и довольно прохладная, только изредка бывают солнечные дни. Князь Меншиков поговаривал о полушубках, но между тем ничего еще не решено. Казалось бы, они необходимы, тем более что поносы здесь весьма часты, хотя холера, благодаря бога, не сильна», — пишет Николаю Михаил Николаевич 7 ноября 1854 г.2 «Между нами будь сказано: и хлебушка подчас — так, в обрез, а может и хуже. Чур, об этом никому. Но солдатики — чудо. Умолчу о некоторых старших, бог им судья», — пишет 16(28) декабря генерал Семякин с бивуака на Северной стороне Севастополя. В том же письме он поясняет, как вели себя эти «старшие», — и прежде всего, конечно, Меншиков. Укрепления строились не так, как строятся крепостные шанцы и бастионы, а так, как строятся баррикады при внезапных выступлениях: «В Севастополе 8 бастионов, и какие лихие! Построенные под ядрами и чуть ли не из молодецких русских грудей и из неприятельских ядер. Все тут употреблено: и мешок, и куль, и бочонок от пороха, и тур, и корабельная цистерна, и фашина, и бог знает каких снадобьев не отыщешь. А дело слажено, сделано и стоит грозно»3. Дождливая крымская осень казалась союзникам чуть ли не полярной стужей. У них свирепствовали болезни, лазареты были переполнены. Хуже всего в союзном лагере приходилось туркам. Камышевая бухта и Балаклава снабжали французов и англичан не только всем, что посылали в Крым оба правительства и что выгружалось с казенных транспортов. Около обеих бухт, в наскоро выстроенных избах и шалашах, вскоре завелись лавки купцов из Марселя, из Константинополя, из Варны и возникли целые торговые поселки. Купцы делали золотые дела во время этой осады. Физический труд был даровой, потому что все тяжелые работы по выгрузке товаров и т. д. лежали на турецких солдатах. «Турок употребляют как вьючных мулов и для зарытия падали», — показывали пленные французы. Били турок и арабов палками за малейшую вину. «Бельназем Абделла из Алжира... оборван, без белья, без обуви, ноги и руки опухли от холода. Повторяет то, на что жалуются все до сих пор перебежавшие арабы: работать заставляют до изнурения, а палок раздают больше, чем хлеба»4. Случайное обстоятельство внесло в это время большую сумятицу в лагерь осаждающих и очень приободрило русских как в Севастополе, так и в лагере полевой армии. 2(14) ноября над южным берегом Крыма пронесся ураган совершенно исключительной силы, который, по мнению некоторых, по своим последствиям был для союзников почти равносилен неудачному сражению. Неслыханная буря повалила палатки, снесла крышу, а вскоре и вовсе разрушила обширный амбулаторный госпиталь, расположенный позади французского лагеря, тяжко переранив лежавших там больных и искалеченных людей. Буря свирепела все больше и больше уже с рассвета, и в 8 часов утра английские и некоторые французские суда были сорваны с якорей и брошены одно на другое; иные прибились к берегу и сели на мель. В Качинской бухте, в Балаклавской бухте разбилось и затонуло несколько транспортов и торговых судов, в том числе погибло семь английских больших транспортов, как раз накануне подошедших к берегу с громадными запасами теплых вещей на зиму для всей английской армии, с колоссальными запасами пищевых продуктов, боеприпасов, обуви. Они не успели накануне даже начать разгрузку и потонули со всем грузом и почти со всем экипажем. С других транспортов спаслось вплавь лишь сорок человек. Огромный пароход «Принц», привезший не только одежду и припасы, но и новые артиллерийские орудия, потонул со всем грузом и со всем экипажем. Немало судов было выброшено на берег и туг сожжено спасшейся частью экипажа, чтобы не достались в руки русским. Громадный французский корабль «Генрих IV» был сорван с якорей и разбился у берегов Евпатории. Суда помельче гибли одно за другим, буря не ослабевала до позднего вечера. Морозы, очень для Крыма ранние, наступили почти сейчас же после страшной бури, и холода длились всю вторую половину ноября и первые дни декабря. Потом наступило некоторое потепление, но полили сильные дожди, заливавшие палатки, и некуда было укрыться от сырости. По роковой для союзников случайности буря 14 ноября как раз потопила почти все транспорты, привезшие им зимние шинели, сапоги, теплое белье, — и приходилось несколько недель ждать новых присылок. Холера в ноябре была сильнее, чем в октябре, а в декабре сильнее, чем в ноябре. После некоторого потепления, длившегося с месяц, — вскоре после Нового года, — холода стали усиливаться. В ночь с 4 на 5 января было 6° ниже нуля. При этом стояла очень ветреная погода и часто выпадал снег, так что подымались метели. Несколько человек замерзло. Русские солдаты и моряки, стоя в холодной грязи весь ноябрь, ждали со дня на день штурма. Дороги на юге зимой были в убийственном состоянии. Больные, тяжко раненные солдаты отправлялись в город и местечки, имевшие лазареты, со скоростью не больше 10—15 верст в день. С такой же «скоростью» доходили до Севастополя боеприпасы и провиант. Военачальниками, вдохновившими и организовавшими прославившуюся навеки оборону Севастополя, были Корнилов, погибший в первой бомбардировке города, а после него (вместе с ним начавшие свою работу) Нахимов и Истомин, Все эти три героя-адмирала оказались дружными работниками. Взгляды их отличались самостоятельностью и ничего общего не имели с взглядами, которые царили при дворе и в военном министерстве в Петербурге, где послушное следование западноевропейским традициям считалось обязательным. Корнилов, Нахимов и их ближайшие последователи своим патриотическим чувством, своим русским чутьем, своим военным дарованием поняли, что нужно делать в отчаянном положении, в котором оказался Севастополь. После Инкермана многие из офицеров перестали верить Меншикову. О солдатах же нельзя этого сказать только потому, что они ему и до Инкермана ничуть не верили. Бедственно обстояло дело с доставкой пороха. Сначала его вообще не присылали. Потом стали присылать, но порох доходил беспрепятственно только до Симферополя. А дальше — ни с места. «Никто не берется за доставку даже по повышенным, я бы сказал даже, сказочным ценам», — жалуется Меншиков в самом конце декабря Долгорукову5. Приходилось экономить порох и снаряды, вяло и скупо отстреливаться при бомбардировках со стороны неприятеля. Бомбардировки бывали пока редкие и слабые, но город страдал в общем от них довольно сильно. Уже после первых полутора месяцев осады многие здания представляли собой «чистое решето», а в Ушаковой балке и на городском бульваре нет «ни одного цельного дерева»6. В январе бомбардирование города и бастионов ослабело. Только четвертый бастион по-прежнему упорно обстреливался ружейным огнем. Русские все время производили ночные поиски группами в несколько человек. Несмотря на страшную опасность этих поисков, люди шли на них с величайшей охотой, наперерыв вызываясь и напрашиваясь в самые опасные места. «В ночь с субботы на воскресенье наш секрет на рассвете, когда неприятель отвел свою цепь, напал на траншеи англичан. Несколько последних заколоты на месте, несколько ранены, несколько взяты в плен. Я видел двух из них, когда их вели на гауптвахту. Один — сухой и пожилой мужчина, другой — безбородый юноша. Первый шел молча и угрюмо, второй — под руку со взявшим его в плен матросом. Пленник и пленивший поменялись шапками и дружески разговаривали между собой. Один говорил по-английски, а другой — по-русски; как они понимали один другого — не знаю»7. Такие картины с натуры — не редкость в наших документах. Бывали и такие случаи. Восемь казаков так внезапно налетели на делавшего рекогносцировку лорда Дункана, что сорок человек английского отряда бросились врассыпную, а Дункан был взят в плен. «Я был взят в плен, не успев вынуть руки из карманов, чтобы схватить поводья моей лошади, но я не предполагал, чтобы сорок человек моего конвоя разбежались от восьми казаков», — заявил лорд Дункан, когда его доставили в Севастополь. Рукопашный бой при тех постоянных, небольшими партиями, вылазках, которые делали осажденные, бывал всегда очень свирепым. «В дворянском собрании [где был один из госпиталей] я насчитал сорок пять раненых в этом деле, в том числе десять французов. Есть раны от ружья, штыка, приклада, камней...» Речь идет об одной совсем небольшой вылазке, предпринятой с четвертого бастиона 29 ноября (11 декабря) 1854 г.8 К концу ноября и началу декабря 1854 г. в Петербург с разных сторон стали приходить известия о состоянии сил противников в Крыму. И все эти известия говорили о том, что война будет продолжаться и зимой. По сведениям, шедшим из Берлина, в конце ноября в Крыму насчитывалось не больше 10 тыс. англичан и 30 тыс. французов. Но к 10 декабря должны были прибыть подкрепления в количестве 10 тыс. человек, а с 10 по 20 декабря — очень значительные новые подкрепления в 22 тыс. человек. А кроме того, к середине января 1855 г. в Севастополе ожидали прибытия еще двух дивизий французских линейных войск9. Корнилов и Нахимов были всецело предоставлены после Альмы не только своим ничтожным материальным силам, но и исключительно собственному разумению и собственной ответственности. В Севастополе негодование по поводу полнейшего безучастия и совершенной негодности военного министра Долгорукова было всеобщим10. Пороха не хватало, снаряды «опаздывали», на бастионах царил полуголодный режим; воровство военного интендантства, при подозрительнейшем попустительстве Петербурга и кое-кого из генералов в самом Крыму, дошло до каких-то буйных, гомерических размеров. Деньги, отпускавшиеся миллионами, разворовывались по дороге, и то, что доходило до роты, получалось с огромным опозданием. Между интендантами и полковым начальством, пишет очевидец, «установился невысказанный, но всеми понятный договор: не требовать от интендантства фуража в натуре и за это пользоваться выгодами от ненормально возвышаемых цен, кто как умеет и у кого насколько хватит совести. Но и эта паллиативная мера принесла только зло и никакой пользы. Командиры действительно не требовали более от интендантства фуража в натуре, но зато и лошадей почти вовсе перестали кормить»11. К этому прибавилось и отсутствие подвоза продовольствия, т. е. полуголодное существование солдат. «Дороги из Симферополя сюда (в Севастополь. — Ред.) в такой степени разбиты, недостаток в фураже таков, что никто, ни возчики, ни кулаки, даже за баснословные цены не решаются взять на себя перевозку сюда чего-либо»12. В Севастополе, под ядрами, его защитники работали с прежним упорством и гнали от себя всякую мысль о сдаче города. С первого дня бомбардировки Нахимов ежедневно бывал на четвертом бастионе. Положение было таково: сейчас же после первой грандиозной общей бомбардировки 5 октября 1854 г. французы направили главные свои силы на этот ближе всех выдвинутый к ним бастион. Уже после первых дней осады и бомбардировок бастион собственно был ямой, где защитники без всякого прикрытия, если не считать жалких брустверов, истреблялись систематическим огнем французских батарей. Нахимов в полном смысле слова стал создавать бастион и создал его. Вот что говорит об этом командир бастиона капитан 1-го ранга Реймерс: «В первые два месяца на четвертом бастионе не было блиндажей для команды и офицеров, все мы помещались в старых казармах; но когда неприятель об этом разведал, то направил на них выстрелы и срыл их. Вообще внутренность бастиона представляла тогда ужасный беспорядок. Снаряды неприятельские в большом количестве валялись по всему бастиону; земля для исправления брустверов для большей поспешности бралась тут же около орудий, а потому вся кругом была изрыта и представляла неудобства даже для ходьбы». Нахимов решил, что без блиндажей — бастиону конец. «Адмирал Нахимов, приходя ко мне, каждый раз выговаривал обратить внимание на приведение бастиона в порядок и устройство блиндажей. Но мне казалась эта работа тогда невозможною, так как под сильным огнем и беспрерывным разорением брустверов нам едва хватало времени поспевать исправлением к утру повреждений брустверов». И при этих невероятных условиях блиндажи были созданы, и люди получили хоть какое-нибудь прикрытие. Бастион был занят в значительной мере матросами, для которых величайшей наградой были слова, сказанные Нахимовым после постройки блиндажей и приведения бастиона в порядок: «Теперь я вижу-с, что для черноморца невозможного ничего нет-с». Нахимов приносил на бастион георгиевские кресты, которые и раздавал особенно отличившимся за последние несколько суток. «Нахимов, приходя первое время к нам на бастион, подсмеивался над тем, кто при пролете штуцерной пули невольно приседал, говоря: «Что вы мне кланяетесь?» Нахимовские порядки, заведенные им во флоте, были им теперь заведены и на бастионах Севастополя, и это не очень нравилось армейскому командному составу: «Армейские офицеры удивлялись тому, что наши матросики, не снимая шапки, так свободно говорят с нами и что вообще у нас слабая дисциплина. Но на самом деле они впоследствии убедились в противном, видя, как моментально, по первому приказанию, те же матросы бросались исполнять самые опасные работы; солдаты их, поступившие к орудиям, делались совершенно другими людьми, видя отважные выходки матросов». Таковы точные и правдивые показания командира четвертого бастиона Реймерса, сделанные им перед тем, как осколок бомбы вывел его из строя13. А вот что писал о П.С. Нахимове и его влиянии в дни обороны другой участник событий — офицер Е. Корженевский. «Особенною популярностью у севастопольцев пользовалось бессмертное имя Павла Степановича [Нахимова], так как у моряков не принято было величать своих начальников и офицеров по чинам. Ни ваше благородие, ни превосходительство вовсе не употреблялось в объяснениях, а звали начальство просто по имени и отчеству, иногда не помня даже фамилии своего офицера. Как сейчас, вижу этот незабвенный тип: верхом на казацкой лошади, с нагайкой в правой руке, всегда при шпаге и адмиральских эполетах на флотском сюртуке, с шапкою надетою почти на затылок, следует он, бывало, до бастиона «верхом в сопровождении казака. Останавливаясь у подошвы нашего бастионного кургана, Павел Степанович по обыкновению слезал с лошади, оправлял панталоны и шествовал по бастиону пешком. «Павел Степанович! Павел Степанович!» — зашумят, бывало, радостно матросы: и все флотское как будто охорашивается, растет, желая показаться молодцеватее своему знаменитому адмиралу, герою Синопа. — Здравия желаем, Павел Степанович! — отзовется какой-либо смельчак из группы матросов, приветствуя своего любимого командира. — Все ли здоровы? — Здоров, Грядка! Как видишь, — добродушно ответит Павел Степанович, следуя далее. — А что, Синоп забыл? — спрашивает он другого. — Как можно! Помилуйте, Павел Степанович, небось и теперь почесывается турок, — усмехается матрос. — Молодец! — заметит Нахимов; либо, потрепав иного молодца по плечу, сам завязывает... разговор, расспрашивая о французах»14. Современники знали, что боевая сила Черноморского флота не только в живом, ежедневном примере, который подавали матросам Нахимов или Корнилов, но в могучей моральной сплоченности, которую удалось создать в матросской массе. Контр-адмирал Стеценко в своих воспоминаниях15 очень верно отмечает, что черноморские моряки и во флоте и затем на бастионах севастопольских укреплений даже не сознавали своего массового исключительного геройства: «Пока всеобщая молва не стала говорить о защитниках Севастополя, как о героях, никто из них не думал, чтобы, стоя на бастионах, он делал что-либо особенное или чтобы служить можно было бы иначе; а в России никто не знал, что Черноморский флот представляет действительно едва ли не лучший организованный в одно целое и одушевленный истинным военным духом корпус офицеров и солдат. Такой дух составлял нравственную силу обороны...» Героев было много и среди солдат: они тоже умирали бестрепетно и безропотно, не хуже матросов. Но губительная система, которая начиная с Павла, продолжая Александром и Аракчеевым и кончая Николаем и Михаилом, Сухозанетом и Клейнмихелем, Чернышевым и Долгоруковым развращала и ослабляла русскую сухопутную армию, сказывалась к концу николаевского царствования в полной силе. Вместе с тем не следует забывать, что и в это злополучное время глухой реакции налицо были прогрессивные явления в области военной теории и русской технической мысли. Уже работал знаменитый теоретик фортификации Теляковский, труды которого были последним словом тогдашней полевой и долговременной фортификации. В Академии Генерального Штаба уже теплился огонь пытливой военной мысли. В Париже просто отказывались понять, как может держаться в полуразгромленных укреплениях столько времени незначительный гарнизон под непрерывным почти огнем могущественной артиллерии двух великих держав при постоянном подвозе союзникам с моря новых и новых транспортов со снарядами. Наполеон III раздражался, осыпал укорами маршала Канробера, наконец уволил Канробера и назначил нового главнокомандующего — Пелисье. На рассвете 28 марта (9 апреля) французы и англичане начали жестокий артиллерийский обстрел русских укреплений на 3-м бастионе и на Селенгинском и Волынском редутах и Камчатском люнете. У очевидцев просто слов не хватает, чтобы передать ужасы наступивших дней. «Нет возможности передать, что это было. Ужасную бурю с градом можно разве сравнить с тем неистовым учащенным артиллерийским огнем, которым неприятель буквально мел ядрами бастионы. Над нами было истинно чугунное облако, становилось просто темно от массы снарядов, пролетавших над головой. Сначала с нашей стороны отвечали дружно, потом слабее, наконец с вечера изредка, так как на 3-м бастионе почти все орудия были подбиты или сворочены, прислуга возле них перебита и ранена»16. Ночью солдаты, почти не отдохнув, работали вместе с присланными рабочими над исправлением повреждений, а на утро начиналась снова адская бомбардировка. И так шло в течение одиннадцати суток. Убыль в артиллеристах была громадная. Но солдаты по единодушным отзывам ни в малейшей степени не теряли присутствия духа. «Солдат и в это время не оставляли свойственный русскому человеку юмор, врожденная удаль и явное пренебрежение к смерти»17. Обедали в эти страшные дни, так же как и спали, — под бомбами. И даже когда однажды на глазах адъютанта Владимирского полка Горбунова во время солдатского обеда под котел рикошетом ударило ядро и все опрокинуло и вышвырнуло пищу на пол (случайно не убив обедавших), то и это не принесло никакой досады солдатам, а послужило только предметом для смеха и острот. Адмирал П.С. Нахимов Начальнику приходилось строго выговаривать за излишнее и крайне опасное молодечество. Пришел в блиндаж как-то адмирал Перелешин, и вдруг во время разговора с офицерами влетела бомба с тлеющим фитилем. Спасение от совсем неминучей опасности пришло неожиданно: молодой матрос повернулся к бомбе и погасил фитиль своей рукой. Офицеры восхищались своим спасителем. Адмирал подозвал матроса, дал ему в награду денег, но тут же напомнил, чтоб он не смел впредь злоупотреблять напрасным удальством и наложил на него какое-то взыскание. В осажденном Севастополе его защитники продолжали изумлять врага своей невероятной, на первый взгляд, и, однако, все крепнущей обороной. Петербург почти не присылал, несмотря на все мольбы, пороха и сухарей, но снабдил Нахимова новым непосредственным начальством — Остен-Сакеном, а Крымскую армию и Севастополь новым главнокомандующим — князем М.Д. Горчаковым, переведенным сюда из Дунайской армии, которой он так неудачно до тех пор командовал. С первого же времени после высадки неприятеля, еще до начала осады, вскоре после Альмы, начинаются русские вылазки, которые уже в октябре—ноябре—декабре 1854 г. оказались особым, очень удачным приемом своеобразной «партизанщины», как полушутя-полусерьезно офицеры величали эти вылазки. Следует сказать, что первыми организаторами вылазок были нижние чины — как пехотинцы, так и матросы. Из этих первых организаторов и фактических осуществителей вылазок прославились боцман Рыбаков, матрос Кошка, Елисеев, Дымченко, Заика, Кузьменко. Высшее начальство не сразу оценило все значение вылазок. Первыми товарищами этих отважных и изобретательных нижних чинов были младшие офицеры — подпоручики Юдин и Игнатьев, поручики Вальцов, Васильев. Но вскоре между ними появились и более заслуженные и старшие офицеры — капитаны и подполковники Бирюлев, Астагов, Титов, Завалишин, Макаров и другие. Храбрецы, шедшие на это опаснейшее дело иногда по два — четыре человека, иногда и более крупными группами, а иногда и в одиночку, успевали ночью пробраться как можно ближе к неприятельским постам, напасть внезапно, перестрелять неприятеля или, что было гораздо труднее, взять его в плен, иногда скрутив руки, иногда накинув аркан, — и притащить в свой лагерь. Георгий Чаплинский не только дает имена наиболее выдающихся изобретателей, организаторов и «охотников», прославившихся в своих отрядах, но и приводит в самом деле изумительные подробности. Как-то в. одной вылазке был убит саперный унтер-офицер. Англичане для глумления выставили его замерзший труп у своих траншей. Матрос Кошка просит у начальника позволения утащить этот труп, ему отказывают Тогда Кошка пробирается к контр-адмиралу Панфилову, жалуется на отказ и получает позволение. Ночью он ползет к трупу, буквально на глазах у англичан взваливает его на плечи и бежит с этой ношей на свою батарею. Англичане дают залп, и пять пуль попадают в труп, но Кошка благополучно добегает со своей ношей до батареи. Подобных удач у него было немало. Однажды он ночью похитил у англичан оседланную белую лошадь, причем, чтобы англичане его не подстрелили, когда он будет совсем у них в руках, он упросил товарища стрелять в него (холостыми зарядами), чтобы неприятель принял его за дезертира. Англичане поддались обману, а Кошка, воспользовавшись минутами их недоумения, мигом вскочил на лошадь и примчался на ней. Кошка был не один — вылазки становились с течением времени все отважнее. Эти вылазки вовсе не были простым проявлением русского молодечества, сметки, отваги. Осенью и зимой 1854/55 г. и весной 1855 г. они настолько участились (особенно во время долгих стоянок, когда происходила упорная борьба за обладание Селенгинским и Волынским редутами и Камчатским люнетом), что приводили даже крупные части неприятеля в состояние большого нервного напряжения. Эти вылазки казались им сплошь и рядом предвестием готовящегося большого русского наступления. Немало русских храбрецов платили жизнью за свою отвагу, но «охотники» не переводились. Офицеры никогда не испытывали недостатка в желающих идти в эти ночные экспедиции. Прибывшие с Кавказа пластуны особенно отличались своими способностями к этому труднейшему делу, к которому они у себя привыкли. Тут требовалось от участников не только храбрость, но и ясная, находчивая голова, тактическое уменье, обязательное для удачи внезапных ночных нападений. Неприятель, вовсе не трусливый в большом полевом бою, боялся этих вылазок, но не придумал средства от них защищаться. В лютые (очень редкие в Крыму) морозы, завернувшие в эту памятную зиму, неприятель оказался, помимо всего, гораздо менее выносливым, чем привыкшие к холоду русские. Пластунам, особенно родом с Кубани, не привыкать было к морозам. Ведь самое их название произошло оттого, что они могли часами лежать пластом на земле, скрываясь в кустах или в траве и выслеживая горцев или турок. «Пластуны научили пехотинцев, ходивших охотниками в неприятельские траншеи, особому приему, который всегда оказывался удачным. Охотники сначала подползают как можно тише к неприятельской траншее; шагов за тридцать они останавливаются, дают залп, закричат «ура» — и сейчас падают. Как только неприятель ответит на их залп, они с новым криком «ура» быстро кидаются в траншеи и начинают штыковую работу»18. Очень заметное участие в этих вылазках именно моряков с их прочной связью между офицерами и нижними чинами способствовало успеху этого трудного боевого дела. «Откровенно вам скажу, друзья мои, что я горжусь, что служу в Черноморском флоте; приятно иметь под командой таких молодцов, как наши матросики. Если и трус, то когда пойдет в дело, то утвердительно можно сказать, что трусость свою бросит в сторону. Потому что видит, как все смотрят прямо в глаза своего офицера и с полной доверенностью идут за ним, не рассуждая, куда он ведет их. Но если офицер спасует, то они наградят его своим презрением и уж, конечно, не выручат из беды, если он попадет. Но зато и обратно: за храбрым офицером идут в огонь, не считая, сколько неприятеля впереди и какие опасности у них на носу. Доказательством могут служить все вылазки... в которых матросы до сих пор еще ничего, кроме отличного, не сделали». Так пишет флотский офицер П.И. Лесли19. Моряки, распределенные Нахимовым по бастионам, играли очень существенную, часто ведущую роль при постоянных вылазках, которыми гарнизон постоянно тревожил неприятеля. Вылазки продолжались всю осень и зиму 1854/55 гг. Союзники страшились этих внезапных нападений, — и имели основание страшиться их. «Из землянок их вытаскивают арканами, три офицера английских были при этом случае задушены. С пашей стороны убито два офицера, 8 нижних чинов и 30 человек солдат ранено. Тобольский полк до того отважен, что сам Меншиков назвал их чертями, а не людьми. Пленные же говорят, что в этой вылазке было не пять рот, а три тысячи человек. Так их тобольцы отуманили. Дезертиров, англичан и арабов, очень много. Недавно вся передняя цепь около Черной речки с офицером передалась нам. Голод их притиснул на порядках. Говорили, что у них есть железная дорога от Балаклавы до Севастополя, — это вздор. Они уже не думают о нападении, а укрепляются для обороны около Балаклавы. Севастополь так укреплен, что и подумать о штурме было бы дерзостью. Все улицы перерезаны баррикадами, из которых каждая вооружена двумя чугунными пушками. По этому можете судить, что в Севастополе нет никакой опасности»20. Конечно, такой оптимизм был неоснователен; предстояла еще долгая борьба, и немало молодых, рвавшихся в бой защитников Севастополя, вроде писавшего приведенные строки офицера, сложило свои головы в ближайшие месяцы. За два дня до смерти Николай I сменил, наконец, Меншикова и назначил главнокомандующим князя Горчакова. Вплоть до приезда Горчакова Остен-Сакен был вершителем судеб, да и потом продолжал влиять на дела. И в качестве помощника начальника севастопольского гарнизона Остен-Сакена, и затем, со 2 марта 1855 г., в качестве начальника порта и военного губернатора Нахимов и днем и ночью бывал на бастионах в самых опасных, самых слабых пунктах, распоряжаясь всегда умно, с глубоким знанием дела, отдавая приказы, контролируя лично их исполнение. И в местное свое начальство, и в петербургское он совсем не верил. «Переписки он терпеть не мог, а запросов министерства просто боялся. В это время Павла Степановича можно было назвать душой обороны — он постоянно объезжал бастионы, справлялся, кому что надо, кому снаряды, кому артиллерийскую прислугу и прочее. И постоянно надо было торопиться, чтобы за ночь исправить то, что разрушил неприятель»21. Ночевал он где придется, спал не раздеваясь, потому что собственную свою квартиру отвел под лазарет для раненых, а «личные деньги адмирала шли на помощь отъезжающим семействам моряков». Для матросов и солдат было нравственной опорой и радостью каждое появление Нахимова на их бастионе. «Да, я был свидетелем беспредельной любви к Нахимову всего войска, и в этом была главная причина его магического влияния на весь севастопольский гарнизон. Кажется странным, невероятным, чтоб одна личность могла иметь такое влияние на десятки тысяч людей, чтоб в течение стольких месяцев заставлять жертвовать жизнью с таким самоотвержением, как это было при обороне Севастополя. Он покорял сердца не одной своею храбростью и геройским спокойствием, но еще более прекрасным, благородным сердцем своим. Он был друг каждого своего подчиненного и готов был сделать для каждого все, что только мог; был справедлив, честен, бескорыстен, ласков и обходителен со всеми — от высших до низших; обращал постоянное внимание на нужды подчиненных... Все это, вместе взятое, и было причиной, что Нахимова, можно сказать, боготворили все подчиненные и что появление его на бастионах сопровождалось таким общим восторженным «ура!». Павел Степанович обращал внимание не только на матросов, но и на солдат, которые также обожали Нахимова как за его приветливость, так особенно за то, что он обращал особое внимание на довольствие солдат и по его ходатайству улучшался быт солдат, которые часто бывали в весьма плохом положении22. Нахимов на военных советах настойчиво высказывался о необходимости вести оборону, пока жив хоть один моряк, в то время как Горчаков, старик, «выживший из ума», чуждый флоту, вступив в управление армией и видя большую потерю людей в Севастополе, задался целью на свой страх бросить Севастополь. 2 марта 1855 г. Нахимов, исполнявший обязанности начальника гарнизона, был назначен командиром Севастопольского порта и военным губернатором города Севастополя, а через пять дней защищаемый им город постиг тяжелый удар: 7 марта, когда начальник Корниловского бастиона на Малаховом кургане адмирал В.И. Истомин шел от Камчатского люнета на Малахов курган, у него ядром оторвало голову. Смерть Истомина была тяжким ударом для обороны Севастополя. Вот письмо, которым Нахимов извещал Константина Истомина о смерти брата: «...Оборона Севастополя потеряла в нем одного из своих главных деятелей, воодушевленного постоянно благородною энергией и геройскою решительностью; даже враги наши удивляются грозным сооружениям Корнилова бастиона и всей четвертой дистанции, на которую был избран покойный, как на пост, самый важный и вначале самый слабый»23. Хрулев, Васильчиков, а главное, самое важное, матросы, солдаты, землекопы — рабочие в своей массе — вот на кого, как и прежде, возлагал надежды Нахимов. Во время обороны Севастополя на весь мир стяжали себе славу русская медицина и ее выдающиеся представители, начиная с врачей и кончая первыми в истории медицины сестрами милосердия. Душой русской медицинской службы во время Севастопольской обороны был Пирогов, знаменитый хирург, которого справедливо называют «отцом полевой хирургии». Несмотря на то, что далеко не все удалось Пирогову исправить в Севастополе и часто признавал он вопиющие недостатки в оказании помощи раненым, — все-таки великое дело медицинской помощи в тех госпиталях, где работал Пирогов, его ученики и последователи, было поставлено образцово. Именно Россия оказалась благодаря Пирогову страной, показавшей впервые, как нужно отстаивать жизнь раненных на войне бойцов. Этой славой Россия обязана великому хирургу, сначала показавшему на практике, а потом написавшему замечательные научные работы об «искусстве лечить на войне»24. Пирогову принадлежит и громадная заслуга организации и наиболее целесообразного использования сестер милосердия, присланных из Петербурга, Москвы и впоследствии из Одессы и других городов. Приоритет русской военно-полевой хирургии, особенно в области анестезии и остеопластики и организации пунктовой медицинской сортировки раненых, необходимо отметить в связи с деятельностью Пирогова в Севастополе, являвшейся замечательным подвигом ученого (многих тяжелораненых спасли пять тысяч ампутаций, сделанных Пироговым). Конечно, в Европе постарались это забыть и отдали сначала пальму первенства англичанам. Великий хирург всю жизнь протестовал против этих попыток англичан и немцев (на собрании германских врачей впоследствии) похитить русскую славу: «Мы, русские, не должны дозволять никому переделывать до такой степени историческую истину. Мы имеем долг истребовать пальму первенства в деле столь благословенном, благотворном и ныне всеми принятом». Так писал Пирогов, знавший очень хорошо, при каких условиях русские сестры делали свое дело и сколько их было убито и как успешно эти энергичные и самоотверженные женщины боролись против «отвратительных злоупотреблений администрации»25. Н.И. Пирогов Признавая беспристрастно, что медицинская помощь в русской армии была поставлена плохо и что великий хирург, так много тяжкораненых спасший от смерти, лишен был средств внести те благие общие перемены, которые он считал необходимыми, нельзя не вспомнить, что и у союзников это дело было поставлено очень неудовлетворительно. Говоря о Пирогове, нельзя не упомянуть о самоотверженных женщинах, помогавших ему в Севастополе. Как высоко ценили Пирогова и сестер милосердия Нахимов и его матросы и солдаты, которых он часто навещал в лазаретах! Особенно прославились героини — Даша Севастопольская, Хлапонина и другие. Сестры милосердия работали усердно и самоотверженно. Но что они могли поделать и что мог существенно изменить Пирогов, когда суммы, отпущенные на госпитали, разворовывались и интендантами, и заправилами медицинской части, и скромными смотрителями госпиталей? Вот что писали очевидцы: «Сестры до сих пор оказались так ревностны, как только можно требовать: день и ночь в госпитале, двое занемогли. Они поставили госпитали вверх дном, заботятся о пище, питье — просто чудо; раздают чай, вино, которое я им дал. Если так пойдет, если их ревность не остынет, то наши госпитали будут похожи на дело. Несмотря на все это, худое начало не исправляется легко. В Симферополе лежат еще больные в непокое: соломы для тюфяков нет, и старая, полусгнившая солома слегка потом высушивается и снова употребляется для тюфяков; соломы здесь уже совсем нет (в Севастополе), пуд сена стоит 1 руб. 75 коп. В открытых телегах, без тулупов, везут больных в течение семи дней из Симферополя в Перекоп; они остаются без ночлега, на чистом поле или в нетопленных татарских избах, остаются иногда дня по три без еды и привара, а если будет еще новое дело, то бог знает, что сделается с ранеными... Корпии и перевязочных средств никогда не будет довольно для раненых. Бинты едва моются и мокрые накладываются»26. Вот так сложился быт медицинского персонала в последние месяцы осады, когда буквально ни одного места, сколько-нибудь безопасного, во всем Севастополе уже не оставалось. «Умелая и опытная сестра милосердия Крестовоздвиженской общины показывала своей молодой сотруднице из вновь прибывших практические приемы перевязки. Внимательно слушала молодая женщина делаемые ей указания; с благодарностью глядел на них раненый солдат, страдания которого были облегчены ловко сделанной перевязкой. Его нога находилась еще в руках сестры, но раздался зловещий крик: бомба! и не успели присутствовавшие оглянуться, как она упала посреди их, а от обеих сестер и от раненого солдата остались разорванные на клочья трупы»27. Но и медицинский персонал, как и весь гарнизон, старался «равняться по Павлу Степановичу», как принято было выражаться в осажденном городе. 28 марта 1855 г. Нахимов был произведен в полные адмиралы. В своем приказе по Севастопольскому порту от 12 апреля Нахимов писал: «Матросы! Мне ли говорить вам о ваших подвигах на защиту родного нам Севастополя и флота? Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию. Мы сдружились давно, я горжусь вами с детства...» Но даже очень любившие адмирала иногда укоряли его в том, что он не умел в полной мере воспользоваться колоссальным авторитетом, который он приобрел. С гневом и презрением наблюдал он за гнуснейшим, необъятным воровством интендантов и провиантмейстеров, но был бессилен заставить Меншикова, а потом лично честных Горчакова, Семякина, Остен-Сакена, Коцебу круто и беспощадно расправиться хоть с кем-нибудь из этих воров, подтачивавших оборону Севастополя в помощь французским и английским бомбам. Точно так же он делал все возможное и невозможное, чтобы поправить ошибки бездарного начальства, но оказывался не в силах воспрепятствовать этим ошибкам. Он умно и глубоко продуманно организовал систематическую защиту Камчатского люнета. «Значение этого лица в Севастопольской обороне было первостепенное. Нахимов... был одним из тех умов, которые... охватывают предмет со всех сторон, проникают его до малейших подробностей и усваивают в совершенстве. При своей простоте и открытости он был честен, бескорыстен, деятелен и имел самое неограниченное влияние на матросов». Он был душой обороны, «могучей физической силой обороны, которой мог двигать по произволу и которая в его руках могла творить чудеса». Нахимов распоряжался, как никто. «То была колоссальная личность, гордость Черноморского флота! — говорит о Нахимове наблюдавший его ежедневно в последние месяцы его жизни полковник Меньков. — Необыкновенное самоотвержение, непонятное презрение к опасности, постоянная деятельность и готовность выше сил сделать все для спасения родного Севастополя и флота — были отличительными чертами Павла Степановича!..» При том обожании, каким его всегда окружали матросы, он знал, чем их наказывать: «Одно его слово, сердитый, недовольный взгляд были выше всех строгостей для морской вольницы». Могучее влияние Нахимова на гарнизон в эти последние месяцы его жизни казалось беспредельным. Матросов давно называли «нахимовскими львами», но и солдаты, которые только понаслышке знали о Нахимове, пока не попали на севастопольские бастионы, очень скоро стали на него смотреть так же, как сражавшиеся рядом с ними матросы. * * * В 6 часов утра 5(17) февраля 1855 г. Хрулев начал штурм Евпатории «общей канонадой, поддерживаемой с обеих сторон огнем из штуцеров»28. Под прикрытием этой канонады батальон греческих добровольцев и четыре казачьи сотни, «укрываясь за стенами на кладбищах и в каменоломных ямах, подошли к укреплениям на сто шагов, где залегли и открыли с неприятелем перестрелку». На подмогу им был отправлен спешенный батальон драгун. В 9 часов утра Хрулев сделал первые приготовления к штурму. Между тем канонада со стороны города все усиливалась. Усиливался и ружейный огонь из города, и Хрулев понял, что в Евпатории гарнизон гораздо больше, чем предполагалось, и что там наберется до сорока тысяч человек. С моря обороне города помогали 12 пароходов и 12 парусных судов, причем несколько пароходов, приблизившись к берегу, начали поражать огнем не только первые две русские линии, но и более далекие резервы. Это очень задерживало штурм, от которого Хрулев решил не отказываться. Вот как он описывает то, что произошло дальше. «Около 12 часов утра вся линия наших батарей подалась к городу на 150 саж. и открыла огонь картечью. Тогда часть неприятельской пехоты и кавалерии под прикрытием штуцерных вошла со стороны карантина; движение это было сопровождаемо выстрелами с неприятельских пароходов, расположенных против нашего правого крыла. Заметив это, ген.-м. Бобылев выдвинул конно-легкую № 20 бат. на картечный выстрел от вышедших войск и построил Новоархангельский уланский полк подивизионно уступами, слева прикрыв эго расположение цепью казаков. Неприятель не осмелился вести атаку и скоро возвратился в город; тогда генерал Бобылев снова отвел бригаду улан из-под выстрелов неприятельских пароходов. Между тем левая наша колонна подведена была к атакованной части города, со стороны озера, а 4-я легкая бат. 11-й артил. бриг. и конно-легкая № 23 бат. подошли к городу на 100 саж. и открыли огонь картечью. Под прикрытием этих бат. ген.-м. Огарев двинулся с 3-м и 4-м бат. Азовского пехотного полка в ротных колоннах29. На левом фланге этих бат. следовал греческий волонтерный бат., предводимый храбрым подполковником Панаевым и подкрепленный бат. спешенных драгун. Турки встретили наши ротные колонны сильным ружейным огнем из бойных заборов и с крыш домов, а также картечным огнем из подвезенных полевых орудий... Но, несмотря на это, наши храбрые колонны подошли к самому рву, но нашли, что он наполнен водою и что штурмовые лестницы 2 саж. меры были коротки. Тогда войска отведены в находившиеся вблизи рва местные прикрытия. Находя, что дальнейшая настойчивость штурмовать город повлекла бы за собою значительные потери, и считая начало дела усиленной рекогносцировкою, начальник отряда ген.-лейт. Хрулев приказал начать отступление... Отступление это было произведено в примерном порядке. Войска по всей линии сохраняли равнение, как на учебном поле. Потери с нашей стороны состояли: из убитых 1 шт.-оф., 3 оф. и 105 нижних чинов, раненых и контуженых 1 генерала, 4 шт.-оф., 34 об.-оф. и 544 нижних чина. Из числа последних 120 чел. легко ранены и по малозначительности повреждений оставались в полках. Потери неприятеля должны быть, без всякого сомнения, очень велики, что можно полагать по сосредоточенности выстрелов и тому, что артил. действовала с дистанции 150 саж. большею частью ядрами и гранатами...». Это донесение Хрулева уточняется и дополняется данными участника боя и одного из распорядителей его, флигель-адъютанта полковника Волкова. Оказывается, русскими было выпущено в бою под Евпаторией 5317 артиллерийских снарядов. Неприятель действовал без особого успеха конгревовыми ракетами, ядрами и гранатами всех калибров. Из числа раненых русских 160 человек по собственному желанию, после оказания помощи, отправлены в полки и могут продолжать службу; 239 человек раненых отправлено в симферопольские лазареты; тяжко изувеченных насчитывалось 34 человека — они были оставлены поблизости в помещичьем доме30. Конечно, постоянная нехватка пороха давала себя знать и в сражении под Евпаторией. К сожалению, решительно ни у кого из военных историков, писавших о Евпатории, я не встретил крайне простого объяснения того странного факта, что русские пушки, дулами своими обращенные прямо вдоль широкой улицы, разделяющей Евпаторию от поля до самого моря, не стреляли в то самое время, когда неприятель шел по ней, наступая на наш левый фланг. Эта «несообразность» (как пишет полковой доктор Генрици) обратила на себя его внимание, и он наивно затеял даже по этому поводу «жаркий спор», окончившийся тем, что доктору «посоветовали поскорее убраться и не в свое дело не соваться». И только спустя три дня после сражения ему удалось получить разгадку тайны, стоившей многих жизней русскому отряду, атаковавшему Евпаторию: «Я узнал..., что пороху оставалось по одному заряду в пушках, который нельзя было выпустить, чтобы не лишить прислугу того убеждения, что пороху еще довольно»31. Нецелесообразен был с точки зрения всей обстановки предпринимаемый по приказу из Петербурга штурм Евпатории, а распоряжение Хрулева о прекращении этого штурма было вполне логично и оправдано. Примечания1. Архив Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР, Письма И.М. Дебу, № 9, 9 ноября 1854 г. 2. Центральный государственный исторический архив (дальше — ЦГИА), ф. Зимнего дворца. Письма вел. князя Михаила Николаевича к августейшим родителям, 7 ноября 1854 г. 3. ГПБ, Рукописное отделение — Q. IV, 365, Семякин — Менькову, 16 декабря 1854 г. Бивуак на Северной стороне Севастополя. 4. ЦГИА, ф. 722, д. 177, О пленных и перебежчиках. 5. Военно-исторический архив, № 5452. Меншиков — Долгорукову, le 24 decembre 1854. Severnaya. 6. Архив Ленинградского отделения Института истории Академии наук. 7. Там же, Письма И.М. Дебу, № 12, 22 ноября 1854 г. 8. Там же, Письма И.М. Дебу, № 15, 30 ноября 1854 г. 9. ЦГАДА — разряд VI, № 1259. Copie d'une dépêche du comte Benkendorff en date du 16(28) novembre 1854, de Berlin, № 192. 10. Одесский исторический архив, 1138, архив № 23, Зеленого. Заметки Милошевича («больные умирают с голоду, продовольствия нет, полнейшая бездарность и никчемность министра Долгорукова»). 11. Из походных воспоминаний о Крымской войне, «Русский архив», 1870, № 11, стр. 2049. 12. Меншиков — Горчакову. Севастополь, Северная, 22 декабря 1854 г. «Русская старина», 1875, февраль, стр. 322. 13. «Сборник рукописей... о Севастопольской обороне», т. I, стр. 30—41. 14. Воспоминания о Севастополе Евгения Корженевского. В кн: «Сборник рукописей... о Севастопольской обороне», т. III, СПб., 1873, стр. 33—34. 15. В. Стеценко, Крымская кампания. В кн.: «Сборник рукописей... о Севастопольской обороне», т. I, стр. 266—267. 16. Н.А. Горбунов, Воспоминания. В кн.: «Сборник рукописей... о Севастопольской обороне, т. I, стр. 73. 17. Там же, стр. 75. 18. Г. Чаплинский, Воспоминания. В кн.: «Сборник рукописей... о Севастопольской обороне», т. 11. СПб.. 1872, стр. 118—119. 19. Там же, стр. 113—119. 20. Архив Севастопольского музея обороны, 5128, VI. Бумаги Щегловых. Отрывок письма Д. Щеглова без даты. 21. Архив Севастопольского музея обороны, 5077, VII. Воспоминания Ухтомского (рукопись). 22. «Кронштадтский вестник», № 9 от 20 января, № 14 от 1 февраля и № 20 от 17 февраля 1885 г. 23. Адмирал Нахимов. Материалы для истории русского флота, М.—Л., 1945, стр. 150. 24. Советская власть признала это в приветствии по случаю 200-летия Академии наук: «Советский народ по праву гордится основоположником русской науки Ломоносовым... основателем военно-полевой хирургии Пироговым». В кн. Н.И. Пирогов, Севастопольские письма и воспоминания, М., 1950, стр. 3. 25. Н.И. Пирогов. Севастопольские письма и воспоминания, стр. 197. 26. ЦГИА, ф. 722, д. 176, л. 482—483. Севастополь, 18 декабря 1854 г. 27. «Из воспоминаний А.Н. Супонева», «Русский архив», 1895, № 10, стр. 259. 28. ЦГИА, ф. 722, д. 177, Описание канонады и штурма г. Евпатории 5 февраля 1855 г. (подписал: генерал-лейтенант Хрулев). 29. В документе всюду вместо «батарея» и «батальон» сокращенно «бат.». 30. ЦГИА, ф. 722, д. 177. Бумага за № 79, 9 февраля 1855 г. На бивуаках при ауле Тюк-Мамай, Таврической губернии. Евпаторийского уезда (подписал. Волков). 31. «Записки доктора А. Генрици», «Русская старина», 1877, ноябрь, стр. 456.
|
Столица: Симферополь
Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта
Территория: 26,2 тыс. км2
Население: 1 977 000 (2005)
Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта
Территория: 26,2 тыс. км2
Население: 1 977 000 (2005)