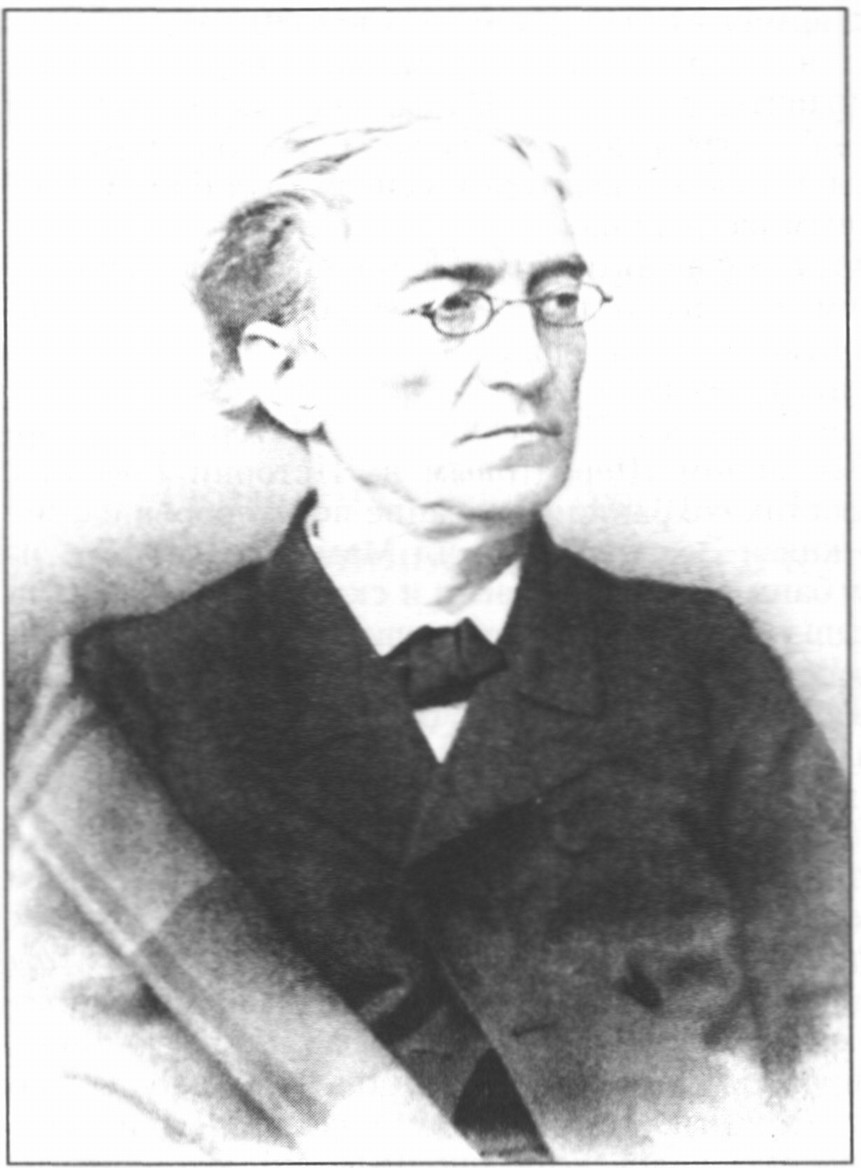|
Путеводитель по Крыму
Группа ВКонтакте:
Интересные факты о Крыме:
Кацивели раньше был исключительно научным центром: там находится отделение Морского гидрофизического института АН им. Шулейкина, лаборатории Гелиотехнической базы, отдел радиоастрономии Крымской астрофизической обсерватории и др. История оставила заметный след на пейзажах поселка. |
Главная страница » Библиотека » «Крымский альбом 2003»
Александр Люсый. «И море, и буря качали наш челн...». Тютчевиана как геопоэтика, обусловленная исконной дипломатической памятью. К 200-летию со дня рождения Федора ТютчеваЛюсый Александр Павлович (р. 1953) (Москва)
23 ноября (5 декабря) 1803 года в селе Овстуг Орловской губернии в семье Ивана Николаевича и Екатерины Львовны Тютчевых родился сын Федор. Двухсотлетие со дня рождения выдающегося русского поэта — главный литературный юбилей 2003 года. Предки и Рубикон: поле родословнойСреди гостей-сурожан, с конца XIII века прибывавших из генуэзской Сугдеи (Сурож, Судак) в Москву, был некто Дуджи. О нем известно немного. Сопровождал знаменитого итальянского путешественника Марко Поло, но в какой-то момент почему-то отстал от него, не отправился с ним далее на восток. Попав в столицу набирающего силу Московского княжества, остался здесь. Как говорится, пустил корни. Не с его ли легкой руки браки «гостей» с москвичками стали вскоре обыкновением? А через столетия мотив роковой любви найдет свое высшее выражение в лирике гениального потомка... От Дуджи ведет свое происхождение родоначальник знатного боярского рода Тютчевых — Захарий Тютчев (Тутчев, Тючев). Это видный государственный деятель Московской Руси в период национального возрождения, сподвижник Дмитрия Донского по дипломатической части, что опять-таки как будто бы генетически унаследовано поэтом. Узнав о том, что огромная армия Мамая двинулась в 1380 году на Русь, Дмитрий Донской предпринял последнюю попытку мирных переговоров. С этой целью и направил он к правителю Золотой Орды, как гласят летописи, «хитрого мужа Захарию Тутчева», нагруженного, как водилось, богатыми посольскими дарами («поминками»). Как это водится и сейчас, был он при этом не только послом, но и передовым разведчиком. Пробираясь на юг через земли рязанского князя Олега, он узнал об изменнических союзах того с Мамаем и польско-литовским королем Ягайло, предупредив об этом Дмитрия Донского, и так вряд ли верившего клятвенным заверениям в дружбе этого южного соседа. Источники, задействованные Николаем Карамзиным в «Истории государства Российского» и князем Михаилом Щербатовым в «Истории России с древнейших времен», в подробностях сохранили описание переговоров в ставке Мамая. От имени великого князя Захарий спросил Мамая о здоровье, на что гневный правитель сбросил башмак с правой ноги и сказал: «Се ти дарую, от великая славы твоея пришедшу, от ноги моея отпадшее». Придворным же повелел: «Возьмите дары московские и купите себе плети: злато бо и сребро князя Дмитрия все будет в руку моею; землю же его разделю служащим мне, а самого поставлю стадо пасти верблюжее». Тутчев отвечал смело и с достоинством: «Бог сделает, что хочет, а не то, чего ты желаешь». Придворная челядь бросилась к дерзкому послу, чтобы тут же его изрубить, но Мамай остановил расправу. Ему понравилось, как посол защищает своего государя. И он в знак особой милости предложил Захарию перейти на службу к нему. «Ради красоты твоей и благоразумия дарую тебе жизнь. Если враг мой Дмитрий еще молод, и то прощаю ему по молодости, чтоб он учился моим обычаям, меж тем же поставлю над Россиею иного князя; а ты, Захарий, обрел пред очами моими милость, и я вижу в тебе человека, который достоин быть в числе первых моих служителей, и коего думаю со временем таким же сделать человеком, как Дмитрий, которому ты теперь служишь». Тутчев понял, что теперь явно перечить властителю не следует, так как это грозило бы погубить не только его лично, но и миссию в целом. Не теряя достоинства, он ответил: «Известно тебе, что не приличествует послу прежде окончания своего дела вступать в службу другого государя. Если хочешь меня пожаловать принятием в свою службу, то позволь мне только выполнить наперед препорученное мне посольство, ибо таковым образом соблюду я пред людьми честь свою, и то, что я к первому моему государю не нарушаю верности, послужит тебе доказательством, что я так же и тебе нелицемерно служить буду». Мамай согласился и под конвоем четырех своих приближенных отправил Тутчева обратно, вместе со своей грамотой. Заметив передовой русский отряд, Захарий связал с его помощью своих сопровождавших и разорвал грамоту Мамая. Затем, отпустив одного из мурз, вручил ему обрывки грамоты и велел передать, что во время своего пребывания в Орде он столько заметил в Мамае безумия, что легко мог из того заключить о содержании грамоты и почел ее недостойной быть представленной великому князю.
М.М. Щербатов объясняет мотивы поведения Тутчева следующим образом. Захарий отчетливо сознавал, что страх перед Ордой еще парализовывал волю и помыслы многих русских князей и церковных иерархов, которые могли бы не позволить Дмитрию подобного вызова в Москве. Ответственность нужно было брать только на себя, и Тутчев это сделал, поставив всех колеблющихся перед свершившимся фактом, не оставляя никаких иллюзий на возможность компромисса. Так был перейден «русский Рубикон». И народ воздал должное мужеству и государственному чутью Захария Тутчева, сделав его героем исторического предания «Про Мамая Безбожного». Народная фантазия наделила его сказочной силой, сделав его одним из главных героев Куликовской битвы. Дмитрий Донской, действительно, брал с собой в этот поход целую группу гостей-сурожан, отведя нм, выражаясь современным языком, роль военных корреспондентов, с тем, чтобы они оповестили о победе цивилизованный мир. История сохранила имена и потомков Захария — Матвея Захаровича и Бориса Матвеевича, по прозвищу Слепого, активного участника политики Ивана III в деле централизации страны, а также прапрадеда поэта Даниила Васильевича, отличившегося в Крымском походе князя Василия Голицына 1687 года. Затем род Тютчевых постепенно уходит в тень. Тем не менее, налицо факт большого «исторического поля» строк тютчевского «Коня морского» (1830): «Ты буйным вихрем вскормлен был / В широком Божьем поле...» От моря и до моряНе правда ли, как будто на крымской «натуре» написано это блистательное стихотворение Федора Ивановича Тютчева? Сновиденьем безобразным Вновь твои я вижу очи — В действительности Тютчеву не удалось побывать в Крыму, хотя он не раз стремился сюда, видя в Черноморье один из узловых центров исторического развития. Мотив пребывания в «Киммерии» отдаленно перекликается с «бегством» в Тавриду К. Батюшкова и других романтиков. Но «Киммерия» Тютчева, со всей своей силой лирического обобщения, имеет не столько географический или антологический смысл, сколько историософский смысл, перекликаясь с «Киммерийскими ночами умозрения» Гете. Север и Юг — два особых мира, как отмечено И. Петровой, «те же Европа и Россия, но только странно смещенные, сдвинутые с тех привычных мест, которые определил для них Тютчев-публицист».1 В наше время, как известно, именно система поэтических координат Тютчева стала более соответствовать основной мировой геополитической координате. Год 1854-й. Появление первого стихотворного сборника Тютчева совпало с разгаром превращающейся в Крымскую Восточной войны (1853—1856), по его словам, «второй Пунической войны Запада против России». Тютчев, значительную часть своей дипломатической деятельности посвятивший безуспешным попыткам предотвращения этой войны, воспринял события как личную трагедию и довольно безучастно отнесся к долгожданному литературному успеху. Теперь тебе не до стихов, написал он 24 октября 1854 года, как раз в момент тяжелого сражения под Инкерманом. Находясь в родовом имении Овстуг, он пригласил в свой кабинет крепостного ратника, направлявшегося в Севастополь, и долго беседовал с ним. Известна своеобразная «севастопольская» переписка поэта со своей второй женой Эрнестиной Федоровной Тютчевой (Пфеффельд), в которой отражена заинтересованность малейшей подробностью, связанной с ходом военных действий у стен «Севастополя-Трои». Вот письмо от 21 мая 1854 года: «Все эти дни мы получали только плохие известия. Во-первых, известие о деле под Севастополем, где у нас выбыло из строя две тысячи человек и кончившееся все-таки поражением, так как мы вынуждены были покинуть на другой день укрепления, которые отстояли накануне такого кровопролития. Зато известие о взятии Керчи при входе в Азовское море, где осталось только семь батальонов для отражения неприятельского корпуса в 20 тысяч человек. Одним словом, нас постоянно оттесняют, несмотря на чудеса храбрости и героизм самопожертвования, и трудно пока предвидеть для нас более счастливый оборот дела. Напротив. По-видимому, то же безмыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, присуще и нашему военному управлению. И не могло быть иначе. Подавление мысли уже давно было руководящим принципом нашего правительства»2. Разрушенный при обороне Севастополя православный храм Святых апостолов Петра и Павла (архитектор В.А. Рулев, сооружен в 1837—1844 гг.). Фото Л.-Э. Мехедена, ок. 1855 г. Музей Армии (Париж) Волнует Тютчева и судьба конкретных людей, вовлеченных в военные действия. «Антуанета Блудова (друг семьи Тютчевых. — А.Л.) получила хорошие известия от брата, находящегося теперь в Симферополе (в госпитале. — А.Л.), но положение его было опаснее, чем предполагали». Через несколько дней — более отрадные новости об успешном отражении очередного штурма. «Наконец получены хорошие известия, и так как я служу тебе... телеграфным агентством, то я сообщу тебе новость, которую ты, вероятно, уже знаешь: 16—18 этого месяца (июня. — А.Л.) был почти общий приступ, отбитый нами очень энергично на всех пунктах. Неприятель оставил в наших руках 600 пленных и 12 000 человек убитыми и ранеными».
Каждый факт тогда приходилось вычитывать между строк официальных сообщении. Правительство было склонно скрывать не только поражения, но и, как ни странно для тех (хотя и не для позднейших) времен, даже победы русской армии. «Испытываешь истинное наслаждение, читая в их газетах подробности этого разгрома, которые против их воли пробиваются наружу сквозь все негодование и вранье. На сей раз столько было пролито крови, что она просачивается сквозь их лукавство, и, несмотря на все ухищрения редакции, ничего не удается скрыть. Но еще более поражаешься, наблюдая, как мы здесь поддерживаем их ложь и их утайки пошлым смирением наших бюллетеней и недостижимым старанием преуменьшить потери врага в наших донесениях... А когда этих идиотов спрашивают о причине всей этой сдержанности, они вам говорят, что это для того, чтобы не раздражать общественное мнение». В то же время Тютчев болезненно реагирует на антироссийскую и антиславянскую кампанию, захлестнувшую правительственные круги и прессу западноевропейских стран. «Что такое торжество и царствование Луи-Наполеона? А этот припадок буйного сумасшествия, овладевший английским обществом от верхних слоев и до нижних? Это согласие, это единение в бешенстве? А затем не менее поразительное единодушие во лжи? Это принесение в жертву не только лучших инстинктов природы человеческой, но даже самых низменных и эгоистичных инстинктов самосохранения и материального благосостояния, какой-то страсти уничтожения и разрушения? Отдельный человек, который поступал бы так, как это делают теперь правительства и целые общества, был бы, конечно, заподозрен в сумасшествии, взят под опеку». О том, какое впечатление произвело на поэта падение Севастополя, свидетельствует дневниковая запись его дочери — А.Ф. Тютчевой 3 сентября 1855 года: «Мой отец только что приехал из деревни <Овстуга>, ничего еще не подозревая о падении Севастополя. Зная его страстные патриотические чувства, я очень опасалась первого взрыва его горя, и для меня было большим облегчением увидеть его не раздраженным; из его глаз только тихо катились крупные слезы...»3 Сам же поэт в письме к жене 9 сентября говорил, что впечатление от этого известия было «подавляющим и ошеломляющим».
Тютчев тяжело переживал смерть адмирала Нахимова, «героя Синопа, бывшего душой доблестных защитников Севастополя». Похожая же на самоубийство смерть императора сменяет снисходительную жалость к Николаю I нескрываемым презрением: «Ты был не царь, а лицедей». В стихотворении «Вот от моря и до моря» Тютчев, как когда-то Державин, натягивает геопоэтическую нить «от Белых вод до Черных». Только звучание этой струны не столь бравурно, как у поэтического предшественника. На «нить железную», которая для обычного взора предстает в виде обычной телеграфной линии, садится «ворон черный». И кричит он, и ликует, «Все известия, полученные тобой с тех пор, объяснили тебе все значение Севастопольской катастрофы, — вновь обращается к жене в не находящем поэтическое выражение отчаянии Тютчев. — Как ты права, говоря, что наш ум, наш бедный человеческий ум останавливается в ужасе и недоумении перед этими потоками крови, столь бесполезно пролитой, — а это ужасное бедствие, может быть, еще только начало, звено целой цепи еще более страшных несчастий». Крымская война, действительно, вошла в историю как самый кровавый военный конфликт XIX века. В одном из лучших образцов своей философской лирики — стихотворении-дате «1856» — поэт выражает тот экзистенциальный сдвиг в понимании взаимоотношений человека и бытия, который произошел у него под воздействием «севастопольских вестей». Стоим мы слепо пред судьбою. Отчасти об этом подчеркнутом самим поэтом моменте размышлял через много лет в «Пути к языку» Мартин Хайдеггер: «Каким бы образом мы ни слушали, где бы мы что-либо ни слышали, это наше слушание есть прежде всего допущение самовысказывания, уже содержащего в себе всякое восприятие и представление. В речи как слушании языка мы говорим вслед услышанному сказу. Мы допускаем его беззвучному голосу прийти, вызывая уже имеющийся у нас наготове звук, зовя его достаточным образом к нему самому... Когда речь как слушание языка допускает сказу сказаться, то такое допускание удается лишь постольку, поскольку, и с какой мерой близости, наше собственное существо отдается сказу. Мы слышим его лишь потому, что послушны ему как ему принадлежащие»4. Правда, немецкий философ при этом строил, как мог, из языка «дом бытия». «Бред пророческих духов» Тютчева оставался в доязыковом, во всяком случае, дорациональном «Божьем поле». Несостоявшееся путешествие в Крым. Год 1869-йПророческий дар Тютчева не имел ничего общего с фатализмом. После окончания Крымской войны он, оказавшись у руля российской внешней политики, с головой уходит в активную дипломатическую борьбу, добиваясь восстановления престижа России на международной арене, готовя почву для отмены унизительных статей Парижского мирного договора, стараясь не допустить образования новой антироссийской коалиции. Однажды, отчаявшись вдохнуть чаемый им уровень смелости в тогдашнего министра иностранных дел князя А.М. Горчакова, он, в нарушение всякой субординации, пишет напрямую Александру II: «Воспрепятствуйте конгрессу (т.е. союзу между Пруссией и Австрией. — А.Л.), умоляю Вас, если еще не поздно. Совершенно очевидно, что в настоящих условиях конгресс не может привести к иным результатам, как разве к тому, чтобы превратить Россию в козла отпущения всех европейских осложнений... Такой исход был бы еще большим несчастием, чем последствия Крымской кампании, так как он привел бы к тому, чтобы увековечить их. Словом, это было бы отречением от всего нашего прошлого, от всего нашего будущего». Мысли Тютчева в эти годы не раз устремлялись в Ливадию, летнюю резиденцию царского двора, который сопровождала сюда в качестве фрейлины императрицы дочь поэта Анна Аксакова. В письме к И.С. Аксакову он весьма критически оценивает состоявшиеся там переговоры: «Посольство Фауда-паши в Ливадии ограничилось разменом пошлостей, а данный ему орден — вопреки мнению Горчакова — не что иное, как рутинная обрядность, имеющая значение только в том смысле, что подобная несообразность доказывает, как мало понимают современное настроение или как мало им дорожат». Летом 1869 года Тютчев отправился на юг с конкретной целью посетить Крым. «Да, конечно, милая дочь, — писал он Анне в Симбирскую губернию, где находились тогда супруги Аксаковы, — я хотел бы посидеть на твоем балконе, который смотрит на необъятную Азию, и там, с наступлением ночи, прислушиваться среди степного безмолвия к заглушенному ропоту великих переселений народов, — как было бы сказано в каком-нибудь вычурном романе. Я, конечно, хотел бы навещать вас там каждый вечер, но с условием просыпаться следующим утром на расстоянии двух тысяч верст от упомянутого балкона... С другой стороны, однако, я не имею ни малейшего желания странствовать собственно по Европе, куда меня посылают доктора — и вот почему в виде золотой середины я избрал область промежуточную, а именно юг России — Киев, Одессу, быть может даже Крым — область, которую я хочу, пока жив, повидать как место действия событий более или менее близкого будущего, при коих, вероятно, присутствовать мне не суждено... И вот почему, милая дочь, я так хотел бы, чтобы твой муж и ты, вдоволь насладившись степью до июля, осуществили наш план поездки в Овстуг, чтобы оттуда всем вместе направиться в Киев. Мне кажется, что это было бы чудесно, но именно потому-то и можно быть почти уверенным, что такое предположение не осуществится. Ибо как Судьба ни взбалмошна и ни своевольна, в ней все же преобладает дух противоречия»5. В Крыму Тютчев надеется встретить дочь Дарью с неустроенной личной судьбой, испытать при этом «отеческую радость не меньшую, чем Орест, нашедший свою сестру Ифигению». ...Когда поэт уже прибыл в Киев, «дух противоречия», действительно, вмешался. Поездке в Крым помешали... последствия ушедшей в историю Крымской войны. Состояние мужа младшей дочери Марии Н.А. Бирилева, контуженного во время той войны, столь резко ухудшилось, что врачи не ручались за его жизнь. Пришлось возвращаться в Петербург. Прощание со стихиямиПолитические новости, в отличие от литературных, интересовали Тютчева буквально до последних минут жизни. Его, конечно, не могла не затронуть серьезно такая дипломатическая («не кровью, а умом») победа России, как отмена 14-й статьи Парижского мира, запрещавшей иметь на Черном море флот и строить на его берегах укрепления. Ведь победа эта была во многом результатом его собственных усилий. Казалось бы, эта сугубо газетная новость вдохновила его в 1871 году написать стихотворение «Черное море». Поэт вступает в перекличку с образами Пушкина, некоторые его фразы цитируя дословно: И вот: свободная стихия, — Образ моря и воды в целом, восходящий к идеям Гераклита, всегда занимал в поэзии Тютчева особое место. И стихотворение «Черное море», при всей его публицистической заостренности и заключенных в нем элементах газетной риторики, имеет все же не только узко политический смысл. Оно по своему обрамляет духовную драму поэта, его напряженный поиск свободы внутренней и «внешней». Когда-то (в 1852 году) в стихотворении «Ты, волна моя морская...», адресованном Е.А. Денисьевой, образы волны и своенравной возлюбленной органично переходили друг в друга: Не кольцо, как дар заветный, Теперь, когда возлюбленной уже не было в живых, поэту важна не «потопленная» душа, а дары «внешней свободы», которые стихия, как бы сохранив в своем «сочувственном лоне», возвращает в виде «бессмертного Черноморского флота». Обращаясь к морю, поэт-политик предчувствует новую русско-турецкую войну. Ждать ее оставалось шесть лет, и в ходе ее состоялось «внешнее» освобождение Балканского полуострова. Она всколыхнула общественное мнение и самой России, в основном, по части «внешнего» сочувствия, но все же способствовала и каким-то направленным вовнутрь, на попытку самоосмысления «умом» шагам. Опять зовет Не все пророчества Тютчева сбылись. И не всегда так, как это ему представлялось... Поэт и его стихи стали рифмой самого бытия. Примечания1. Петрова И.В. Мир, общество, человек в лирике Тютчева / Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 26. 2. Цитаты из писем даны по изданию: Письма Ф.И. Тютчева ко второй жене, урожденной баронессе Пфеффельд // Старина и новизна. Кн. 19. СПб., 1911. С. 222—235. 3. Цит. по: Пигарев К.В. Жизнь и творчество Тютчева. М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. С. 153. 4. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 266. 5. Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988. С. 357.
|
Столица: Симферополь
Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта
Территория: 26,2 тыс. км2
Население: 1 977 000 (2005)
Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта
Территория: 26,2 тыс. км2
Население: 1 977 000 (2005)